Островский явно платит дань «современности» и даже «благодетельной гласности»: создает жиденькую, но честную фигуру Жадова, громящего своими тирадами и мир Вышневских, и мир Юсовых; создает честного механика-самоучку Кулигина, облеченного в немецкий костюм и обличающего русский быт и. т. д. Здесь Островский — не спокойный и объективный поэт, с любовью рисующий картины родного быта в произведениях первого периода, а писатель — с «лукавой тенденцией» [1], некоторыми сторонами своей деятельности подтверждающий теорию Добролюбова.
Григорьев с уверенностью полагает, что «Добролюбов, хотя и односторонне, но логически верно вывел теорию из внимательного изучения многих и притом весьма ярких сторон второго разряда комедий и потом, увлеченный страстью к логическим выводам quand même, вопреки самой жизни, подвел под логический уровень и комедии первого разряда» [2]. И Островский, таким образом, неожиданно превратился под пером блестящего критика-публициста в великого писателя, но только как обличитель самодурства нашей жизни.
Не отрицая относительной верности теории Добролюбова, Григорьев, однако, считает слово «самодурство» узким, далеко не обнимающим смысла всех жизненных отношений в произведениях Островского, и имя «сатирика» и «обличителя» мало идущим к поэту, который «играет на всех тонах, на всех ладах народной жизни» [3]. В этом убеждается Григорьев путем тщательного анализа всех произведений драматурга, написанных в первый период, т. е. с 1847 по 1855 г. включительно. В этом же убеждает его и отношение к произведениям драматурга массы, под которой Григорьев подразумевал не одну какую-либо часть народа, а то, что «в известную минуту сказывается невольным общим настроением» во всех людях без различия звания, положения и умственного развития [4]. Симпатии и антипатии этой массы в комедиях драматурга коренным образом расходятся с теорией Добролюбова. А это весьма ценный показатель, так как Островский, как, драматург, создавал свои типы не для кого-либо в отдельности, а «для массы, для которой он, пожалуй, как поэт ее, поэт народный, есть и учитель, но учитель с тех высших точек зрения, которые доступны ей, массе… с точек зрения, ею, массой, понимаемых, ею разделяемых»[5] . Особенно резко разошлась масса с Добролюбовым в понимании «Грозы», появившейся после «Темного царства». Эта драма, представленная на Александрийской сцене, произвела на массу исключительно сильное и глубокое впечатление не вторым актом, который, хотя с трудом, но все же можно подвести под теорию Добролюбова, а концом третьего, где «решительно ничего иного нет, кроме поэзии народной

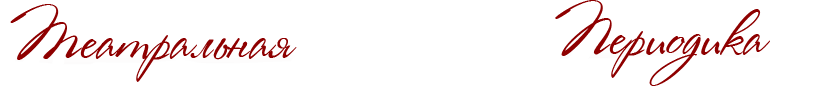
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919