дениях «коренные, стало быть, нормальные, органические типы народной жизни — порочные или добродетельные — это ему совершенно все равно, увековечивает притом sine ira et studio,
Спокойно зрит на правых и виновных,
не задаваясь ни сочиненным идеалом, ни раздражением» [1].
Вследствие незаконченности «нового курса» и других работ Григорьева о драматурге и разбросанности последних по разным журналам, некоторые критики, не собравши этих работ или недостаточно в них вдумавшись, неправильно истолковывали взгляды Григорьева на драматурга, полагая, что он смотрел на последнего, как на полного и всестороннего выразителя нашей народной сущности. Это ошибка. Полным очерком народной жизни для Григорьева был один только Пушкин. Островский же, по его взгляду, явился могучим, но односторонним выразителем только некоторых коренных черт нашего народного уклада, которые сохранились и жили по преимуществу в купеческом классе. Типы Островского — чисто русские, простые, по терминологии Григорьева — смирные типы. Но в нашей жизни имеются иные, диаметрально противоположные тины, а именно: пришлые, тревожные, по терминологии Григорьева — хищные типы, которых почти не коснулся Островский в своих комедиях и драмах.
По взгляду Григорьева, высказанному им еще в 1846 году, хищные и смирные типы — две стихии нашей родины. Первоначальный источник хищной стихии «варяги, элемент пришлый, бродячий завоевательный, элемент малый числом, но могучий нравственною силою, гордый сознанием этой силы и больше еще: запечатленный трагическою религиею Севера»[2]. Источником же смирной стихии являются славяне, элемент «оседлый, еще непосредственный, еще рассеянный, не собранный воедино, не перебродившийся», над которым взял верх, возобладал варяжский элемент[3] . Оттуда пошли и не одно столетие прошли вместе эти две стихии, неосознанные и непримиренные, бессознательно ведя между собой напряженную борьбу, следы которой отразились в нашей литературе. И только Пушкин, наш первый и единственный художественный синтез всего нашего прошлого, соединил в себе воедино и примирил на время эти два элемента, озарив их светом своего гениального сознания. «Пушкин, — читаем мы у Григорьева — гениальный Протей, совместивший в своей богатой шекспировской организации все направления, ему предшествовавшие, и, следовательно, на него должно смотреть, как на полный, художественный результат прежней, еще не достигшей самобытности литературы, и в нем не отдельно только, а слитно, совокупно найдете вы следы двух направлений, поколику они выразились в литературе, ему предшествовавшей»[4] .

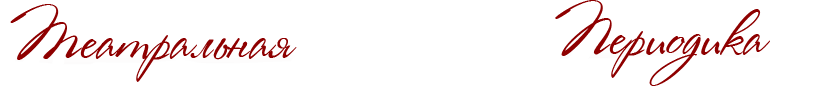
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919