Так смотрел Григорьев в 1846 г. на хищный и смирный элементы в нашей жизни. Через тринадцать–четырнадцать лет, когда он писал свои работы о Пушкине и Островском, его взгляды по существу не изменились, но изменилось отношение к этим двум началам. Раньше явно чувствовалось, что его симпатии всецело склонялись на сторону смирного начала, и он, пожалуй, верил в его конечное торжество и даже желал этого. Теперь же он полагал, что пришлый элемент, в течение ряда столетий тяготея над русской жизнью, успел уже настолько видоизменить душевный уклад нашего народа, войдя в него неотделимой стихией, что без него для нас стала немыслима дальнейшая жизнь, и Григорьев радовался этому, потому что только одно наше смирное начало неизбежно привело бы нас к «застою, закиси и моральному мещанству» [1]. Но, признавая полезность этой пришлой стихии, Григорьев в то же время находил, что ее необходимо постоянно обуздывать, умерять нашим смирным началом и держать в законных пределах. Иначе, освободившись из-под контроля, она уже действует разрушительно и гибельно, как гибельно она подействовала на наши великие натуры: Лермонтова, Мочалова, Полежаева и др. Она же скосила и Пушкина, как только он на момент ослабил свою волю и дал ей свободу. Следовательно, нужно бороться не с пришлым началом, как таковым, которое само но себе полезно, а с его крайним проявлением. Так и поступал Пушкин. Он, признавая полезность и законность этой пришлой стихии, в своей художественной деятельности все время боролся не с ней, как таковой, а именно с ее крайним напряжением и чудовищным проявлением, до которых она доходила, вследствие тревожной волны романтизма и байронизма.
В эпоху отрицания и обличения Островский был для Григорьева «единственный коновод надежный и столбовой», но в нем не хватало «примеси африканской крови к нашей великорусской»[2]. И Григорьев страстно хотел, особенно в последние годы своей жизни, чтобы явилось новое дарование, которое затронуло бы новые струны народной души и таким образом дополнило бы Островского. Но этих мыслей Григорьев не успел высказать в своих статьях. Он только бросил их в неразвитом виде в письме к Страхову. «Островский, — писал он ему — только одна сторона моего верования. Если бы я верил только в элементы, вносимые Островским — давно бы с моей узкой, но относительно верной и торжествующей идеей я внесся бы в общее веяние Духа жизни… Но я же верю и знаю, что одних этих элементов недостаточно, что это все-таки только membra disjecta poёtae, что полное и цельное сочетание стихий великого народного духа было только в Пушкине, что могучую односторонность исключительно народного, пожалуй, земского, что скажется в Островском, должно умерять сочетание других, тревожных, пожалуй, бродячих, но столь же существенных элементов народного духа в ком-

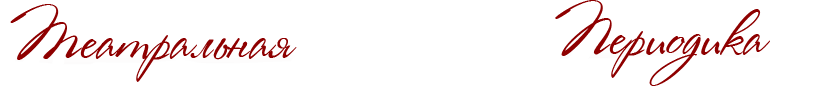
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919