Теперь я собираю от литераторов пьесы. Я хочу подобрать букет новых пьес. Я слышал, вы написали новую пьесу? — давайте».
Я только что окончил «Перекати-поле». Боборыкин выхватил у меня, прочел немедля и заявил, что из рук ее не выпустит и что он даст ее в первой половине сезона. — Отправился я в цензуру, к цензору Кейзеру, который только что безжалостно урезал роль станового, написанного мною в расчете на первого комика; его впоследствии и играли Давыдов и Музиль.
— «Я не могу пропустить его рассказа о пожаре, — сладко ворковал Кейзер, и даже закрывал глаза, как тетерев на току. — Во-первых, пожар кабака, это — следствие зарока крестьян — не пить. Что такое «зарок»? Это решение скопом. Это постановление мирской сходки. А всякие действия скопом воспрещены».
— «Но ведь мирские сходки разрешены? Стало быть, и их постановления цензурные…
— «В том-то и дело, что сходки разрешены, а всякие постановления скопом воспрещаются. Что кабак был подожжен по предварительному соглашению, — несомненно. Положение драматическое. Между тем при рассказе станового — публика будет смеяться. Подобный смех нежелателен. Когда становой приезжает и производит следствие, оказывается, все заливали огонь и никто не поджигал. Очевидно, по взаимному уговору покрывают преступников. Этого для сцены пропустить я не могу».
Я начал торговаться.
— «Ну, хорошо, кое-что я оставлю, но только для вас, — согласился наконец Кейзер. — Мой долг требует не пропускать таких фигур на сцену. И зачем эти французские фразы у станового? Конечно, и такие становые бывают, но это — не отличительный признак их должности: Напротив, — встречается как исключение. — Я знал одного станового, который прежде был гусаром; вышла у него какая-то история в полку, репутация была у него подмочена, и он вдруг сделался становым. Но выведите вы такую биографию в пьесе, — я не пропущу»…
— «Затем, у вас помещица Третьякова. — Она зовет себя беззащитным существом, а ее сам губернатор боится. — Не думаю, чтоб губернатор боялся дамы. Она ему неприятна — да. Но что он ее боится — этого я не могу оставить, вы извините… Вообще, мне кажется, — помещица эта несколько карикатурна».
Упреки в утрировке типа Третьяковой повторились потом и в отзывах печати. И в Москве — где пьеса шла дважды — в театре Горевой, и через три года в Малом театре, и в Петербурге, (где главное лицо пьесы, Любочку, по очереди изображали Савина и Васильева) — раздались те же упреки. Здесь Третьякову играли в очередь Жулева и Стрельская, в Москве Никулина. И в газетах и журналах писали, что они по мере сил смягчили грубый образ автора. Между тем меня если уж можно было в чем упрекать за Третьякову — так за вялость типа и, пожалуй, за близкую фотографичность.

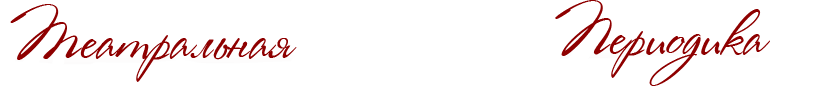
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919