Весь мой литературный век я никогда не подходил с фотографическим аппаратом к действующим лицам и не занимался фиксировкой исключительных характеров, — меня занимала по преимуществу типичность. Но в Третьяковой почти ничего нет сборного: она явилась точной копией с некой помещицы, теперь уже давно не существующей на этом свете… Цензор уверял меня, что ее бояться губернатор не мог, а ее боялись и сенаторы, ревизовавшие губернию. Она открыто шла против злоупотреблений и насилий, и те средства, что употребляла она, были порою слишком эксцентричны. Приехал раз сенатор на ревизию. Третьякова явилась к нему в приемный день и просила передать ему свою карточку. Через час, несмотря на уверения чиновника особых поручений, что его высокопревосходительство занят, она послала вторую карточку. Прошел еще час. Она заставляет чиновника, несмотря на его уверения, передать третью карточку. Сенатор рассерженный показывается в дверях.
— «Кто меня звал? Сударыня, вам я нужен? Но я очень занят. У меня серьезные дела. Мне некогда с вами беседовать».
Третьякова сделала ему книксен.
— «Извините, паше высокопревосходительство, что обеспокоила. Если бы я знала, что вы такой хам, я бы и не поехала к вам».
И это было сказано в присутствии тридцати просителей. Она повернулась и торжественно пошла к выходу, шлепая своими резиновыми калошами, которые надевала даже в сухую погоду. Тщетно хотел ее секретарь вернуть. Потом она писала в Петербург своему племяннику-министру.
— «Кого ты прислал к нам в губернию на ревизию? Какого-то старого идиота? Эта песочница вздумала кричать на меня? Скажи ему от меня, что он свинья и больше ничего».
Моя вина и том, что я по цензурным условиям вместо крупных столкновений взял ее борьбу с местным становым, который бежит при виде ее. Но критика не хотела принять этого во внимание.
Я говорил о цензуре правительственной. Но гораздо придирчивее цензура рецензентов. Невидимому, задача рецензентов — подходить только с художественной стороны к драматическому произведению. Но критики всегда, искони веков, выходили из этих рамок. Они громко заявляли, что автор не имеет права брать того сюжета, который берет он. Словом они говорят о том, что пишет автор, а не как исполнена его задача. Если бы Булгарин советовал зарубить Гоголю на стенке, что нельзя писать таких пьес, как «Ревизор» и «Женитьба», это бы куда еще ни шло. Но Белинский уверял, что «Горе от ума» не есть художественное создание, что в нем нет целого, потому что нет идеи, Чацкий ни на что не похож, а Софья не действительное лицо, а призрак[1]. Когда дали впервые «Чайку» Чехова — критики кричали, что это следствие размягчения спинного мозга у автора. Когда Тургенев написал в конце 40-х годов свои пьесы, уверяли,
[1] «Отеч. Записки» 1840 г., т. VIII.

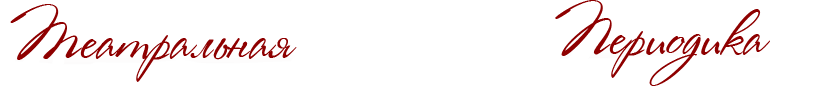
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919