и тех, кто вкусил от творчества гениев нового времени, вернуть назад и прельстить примитивным хороводом. И обратно — вспомним отзывы русских путешественников о виденном ими в Италии в XVII в.: они были глухи и невосприимчивы к искусству Запада. Отсюда, стало быть, для восприятия впечатлений от художественного творчества вообще, а также и для воспроизведения заимствованного драматического произведения — необходимо иметь достаточно подготовленный интеллект и психику, способную вживаться в новые, чуждые и при том разнообразные переживания. Одним словом, подражанию, переносящему на свой театр чуждые первоначально последнему произведения, надобно иметь всю ту сумму культурных привычек, всю совокупность психических навыков, которые создают характер человека определенной эпохи и определенной среды.
Всегда ли, однако, заимствующий — и, как таковой, большею частью стоящий на низшей степени культуры, — обладает всем этим? Несомненно, ответ должен быть отрицательным. Приняв же это положение, мы не будем удивляться тому новому, тем своеобразным чертам, которые приобрели у нас заимствованные с Запада пьесы старинного театра, пьесы Мольера, де-Виллье, Чиконьини, Лоэнштейна, Марло и др.—и не только в тексте, но и в сценической интерпретации его. Я не хочу сказать, что эти новые ингредиенты русского происхождения в плане западноевропейской драмы были хуже того, что давал иноземный текст и сценическая практика. Мало вероятно, чтобы жизнь, быт в России эпохи царей Алексея и Петра I был значительно грубее, чем, напр., в Германии и даже во Франции (вспомним Жоделета); но все же они были иными, чем заграницей, а отсюда и то специальное cachet, которым отмечены русские переводы иностранных пьес, и русских подражаний иностранному. Нет сомнения, что не только тексты пьес, попавших на границе в XVII−XVIII вв. в русский репертуар, но и самые приемы сценического воспроизведения должны были получить особое cachet. Достаточно отметить, какая среда поставляла первых актеров, и кто был их руководителем на трудном поприще сценической деятельности. Следственно, имея перед собою пьесы упомянутых европейских авторов не следует думать, что они предстали пред русской публикой в своем настоящем виде. Чужое, чтобы стать русским должно было пережить своеобразную обработку, в результате которой из Дон-Жуана де-Виллье получился в итоге тот «Кедрил обжора», которого увековечил Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого Дома».
III.
Виновато ли тут время, в которое мы живем, или своеобразная аберрация нашего исторического мышления, — но при взоре на прошлое русского театра наш взгляд поражается своеобразною статичностью старинного театра по сравнению с XIX веком и особенно с началом ХХ-го. XIX-й век, расставшись с важностью классической трагедии и воскресив

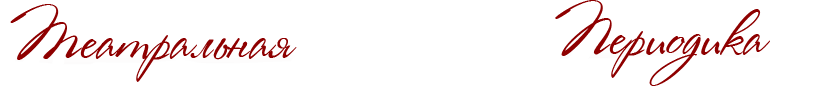
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919