Первоначальный проект репертуара имеет ряд новых постановок балета и возобновлений прежних: «Сольвейг», муз. Грига, декорации худ. Головина, в постановке Петрова; «Ночь на Лысой горе», муз. Мусоргского, «Итальянское Каприччио», муз. Чайковского и «Фауст» муз. Листа в постановке Лопухова; «Времена года», муз. Глазунова; «Капризы бабочки» и «Аци и Галатея».
Часть этих балетов будет поставлена в новой обстановке и композиции, остальная в обновленной.
Из Горбуновского наследия.
Впервые об Иване Федоровиче Горбунове обстоятельно и с должной серьезностью заговорил А. Ф. Кони. До этого большинство смотрело на его «сцены из народного быта», как на весьма благодарный материал «для рассказов на сцене и семейных вечерах».
Горбунов в глазах и публики и критики годился только для дивертисмента. Думается, что он и сам на большее не рассчитывал. О том, что он должен войти в историю нашей литературы, как незаурядное явление, заговорили только после его смерти, заговорили робко, неуверенно, да и то немногие.
Для покойного П. О. Морозова (псевд. Северов) казалось вполне понятным, почему критика обошла Горбунова: он был явлением сценическим, а не литературным. Дебютировал (1861) он книжечкой рассказов, «которая являлась лишь очень тусклым и бледным отражением подлинного Горбунова».
Old Gentlemann (А. В. Амфитеатров) согласен в этом («Россия», 1901, № 864) с Морозовым. Он находит естественным, что критика отнеслась равнодушно к писательским выступлениям артиста: «да и не могла она его заметить — с какой стати было его замечать? Разве можно было серьезно толковать об изучении русской народности «по Горбунову» в десятилетия, когда, не говоря уже о светилах первой величины — область русского народного рассказа разрабатывали такие сильные и глубокие художники, как, например, Левитов, Слепцов»?
И А. Ф. Кони укоряли в «канонизации», в преувеличении писательского таланта Горбунова, который лучше говорил, чем литераторствовал. Ни критики, ни читатели не могли забыть Горбунова, этого «самого популярного человека в России», как рассказчика. Не актера, а именно рассказчика. Актером Горбунов был слабым, второстепенным, чтобы не сказать больше. В этом единодушно все сходились. Артистом он был только при неподражаемой передаче сцен собственного сочинения. Литератор был заслонен рассказчиком и, казалось, навсегда.
Горбунов отошел в вечность (1895). Его стали забывать, как вообще скоро забывают сценического деятеля. Но вспомнили при издании сочинений Горбунова-писателя.
«Два изданные г. Марксом тома», пишет Измайлов («Бирж. Вед.» 1901, № 232), «возвращают русской литературе полуутраченного ею незаурядного писателя-народника… История литературы будет знать, конечно, только Горбунова-народника, изобразителя русского мужика и купца в удивительной близости к подлиннику. Вышедший в 1855 году на поприще бытописателя народа после Григоровича, Тургенева и Островского, и предваривший и Николая и Глеба Успенских, Горбунов сам задал себе тон и на протяжении своей деятельности пел по собственным нотам… Может быть, Горбунов был недостаточно глубокомыслен, чтобы проводить в своих рассказах серьезные народнические идеи… может быть он был слишком художник, чтобы примешивать какие-либо философские задачи к тому объективному восприятию и запечатлению жизни, какое было ему по сердцу… Два тома сочинений Горбунова дают яркий и выдержанный бытовой комментарий к эпохе, в которой жил их автор»…
Теперь наступает время, когда можно задать вопрос, а нет ли в писаниях Н. и Г. Успенских, Левитова, Слепцова, Златовратского и др. чего-нибудь и от Горбунова? Не был ли он до некоторой степени виновником и того резкого поворота от слащавого сентиментализма Григоровича на путь непосредственного изучения русского человека?
Самому Горбунову «ходить в народ» было не нужно. Он вышедший из полукрестьянской, полуфабричной Ивантеевки («Копнино тож») всю жизнь не порывал с ней связи, раз-два в год заезжал на родное пепелище и там отдыхал душой от пыльных кулис, угарных ночей и безалаберной, чисто русской, жизни. Изучать ему мужика, фабричного не приходилось, потому что его «я» тесно было связано и детством и юностью с народом. Там для него сфинксов не существовало, разгадывать никого не требовалось, все было ясно. Понятны и близки были достоинства и недостатки народа, первые вызывали слова, согретые любовью простой души, вторые тонкую и, чаще всего, добродушную улыбку.
И слова находились настоящие, меткие, заменявшие целые фразы, подробные описания. И никогда не были фальшивы, нарочито придуманы, именно слова, а не «словечки», которыми грешил в своих повестях даже такой художник, как Лесков. Лживого слова читатель у Горбунова не встретит.

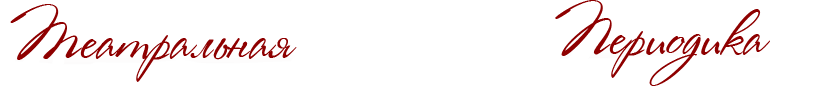
 Еженедельник Петроградских государственных театров. 1922. №1-2 (17-24 сентября )
Еженедельник Петроградских государственных театров. 1922. №1-2 (17-24 сентября )