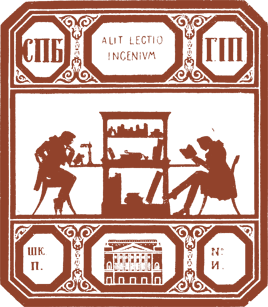А. А. Григорьев и А. Н. Островский.
I
Островский в оценке Григорьева.
Статья В. С. Спиридонова.
Аполлон Григорьев глубоко и верно понимал Островского. Но взгляды его, на драматурга в свое время не были поняты, а затем и совсем были забыты, в чем повинен был отчасти сам Григорьев, не сумевший, в силу разных причин, с достаточной полнотой и определенностью выразить своего понимания автора «Своих людей». В своей статье «Русская литература в 1851 году» он торжественно объявил Островского «новым словом» в литературе, но не объяснил при этом, что он понимал под этим «новым словом». Враждебная критика подхватила это выражение и в течение ряда лет с легким сердцем потешалась над Григорьевым. «Новое слово», — писал Дудышкин — показывается лишь в самом конце долгого умозрительства г. Григорьева, как отрадное видение, как светлый призрак, как заря будущего. Он еще не нашел его, но ждет его от г. Островского, и уже заранее приходит в восторг при мысли, какое это будет удивительное «новое слово». Задав читателям эту загадку, г. Григорьев опускает занавес. Представление кончено. Многие, в свою очередь, могли бы спросить: сказал ли хоть одно «новое слово» сам г. Григорьев? Ответ будет не труден: он сказал так много «новых слов», что все фельетоны, взятые вместе, не произвели равного количества в целый год».[1].
Понял Григорьева, но не согласился с ним Дружинин, смотревший на Островского, как на подражателя Гоголю. Разбирая «Бедную невесту», он говорил: «В настоящее время Островский еще подражает Гоголю, подражает ревностно и даже раболепно, подражает очень удачно, но не
[1] «От. Записки» 1853, т. 86, отд. IV, с. 45–49.
более», и, возражая, без сомнения, Григорьеву, добавлял: «нового направления он еще не сыскал, нового слова им не сказано!»[1]. Не один Дружинин, а большинство критиков начала пятидесятых годов смотрело на Островского, как на подражателя Гоголю. Подобный взгляд на драматурга Григорьев считал глубоко ошибочным, но пока не решался обстоятельно высказаться по этому вопросу. «Об этом, — писал он — надобно говорить слишком много или покамест вовсе не говорить. Сказать, что отношение Гоголя к действительности есть, так сказать, «трансцендентальное», тогда как отношение к ней автора «Своих людей» — совершенно прямое… значило бы подать только повод к нелепым предположениям, что мы ставим Островского выше Гоголя»[2].
Брошенную здесь параллель между Гоголем и Островским Григорьев углубил в следующем году в своей статье «Русская изящная литература в 1852 году», где он главное место отвел разбору «Бедной невесты». В этой работе он снова повторил, что Островский преемник и продолжатель Гоголя, а отнюдь не подражатель, в чем легко убедиться, всмотревшись глубже в характер мировоззрения и в сущность творчества того и другого художника. Гоголь и Островский — оба с прочно сложившимся мировоззрением, сходным по своей сущности, но различным по своим оттенкам. Мировоззрение Гоголя имело характер отвлеченный, тревожный и болезненно юмористический. Мировоззрение же Островского было с оттенком, которое можно назвать «коренным русским миросозерцанием, здоровым и спокойным, юмористическим без болезненности, прямым без уклонения в ту или другую крайность, идеальным, наконец…. без фальшивой грандиозности или столь же фальшивой сентиментальности» [3].
Вследствие различия в мировоззрении того и другого писателя, различно было и отношение их к изображаемой действительности: отношение Гоголя выразилось «в юморе и притом в юморе страстном, гиперболическом[4] . Отношение же Островского к изображаемой жизни было «прямое, чистое, непосредственное, насколько вообще возможно такое отношение в век разъединения идеала и действительности[5]. А отсюда — не одинаковы были и задачи, какие были призваны разрешить в своем творчестве оба художника. Задача Гоголя была чисто отрицательная: «сказать, что дрянь и тряпка стал всяк человек, выставить пошлость пошлого человека, свести с ходуль так называемого добродетельного человека, уничтожить всё фальшивое самообольщение, привести, одним словом, к полному христианскому сознанию». Свою задачу Гоголь выполнил гениально:
[1] Соч. Дружинина, т. VI, с. 639.
[2] «Москв.». 1852, т. III, отд. V, рец. о «Библ. Для чтения», с. 45.
[3] Полное собрание соч. и писем Ап. Григорьева, под ред. Вас. Спиридонова, т. I, Изд. II. П. Иванова. П-град. 1918, с. 159
[4] Там же, с. 110.
[5] Там же, с. 215.
он сказал «слово полное и цельное… слово, наконец, последнее, потому что дальше в его направлении идти нельзя и некуда»[1]. Нужно было «новое слово» и новое отношение к жизни. То и другое дал в своих комедиях Островский, явившийся на литературную сцену, как «разумное историческое и самостоятельное последствие» гоголевского слова. Он пошел в своем творчестве от того пункта, где остановился Гоголь, но пошел в ином направлении, в направлении прямого и спокойного выявления и изображения коренных основ народной жизни, сказав тут «новое слово» и показав новое отношение к действительности. В подтверждение своих соображений Григорьев дал в своей статье обстоятельный анализ «Бедной невесты», закончив его словами: «Бедная невеста», несмотря на свои недостатки, должна явиться «замечательным произведением во всякой литературе, а задачи ее так широки, благородны и новы, что, без сомнения, поставляют автора в главе современного литературного движения» [2].
Статья Григорьева, богатая по содержанию и серьезная по своим взглядам, не получила справедливой оценки со стороны критики. «Отеч. Записки» и «Современник» обошли ее молчанием. Другие же органы не нашли в ней ничего достойного внимания, кроме отдельных слов, выражений и случайных промахов, которые они извлекли из статьи для того только, чтобы поглумиться над Григорьевым. Так, Булгарин наполнил три больших столбца случайно выхваченными из статьи словами и выражениями, не имеющими без связи с целым никакого смысла, и следующим образом закончил свой отзыв: «Автор статьи вводит в русский язык слова из всех возможных языков, чтобы другие подумали, что он силен в них… Настоящее шутовство! А ныне это в моде между писателями, которые, как говорит автор статьи, за исходную точку в литературе принимают появление в свет Мертвых душ и Ревизора, автора которых ставят выше Мольера и на одной линии, хотя несколько выше, с Шекспиром! Спрашиваю: для кого пишут эти господа? Откуда почерпают это смешение языков? Какие из этого могут произойти последствия для языка и слога?»[3].
Григорьев более года не делал попытки говорить серьезно об Островском. Если он и писал о нем за это время, то лишь попутно. И только в 1854 году, увлеченный «Бедностью не порок», игранной на сцене, Григорьев снова заговорил восторженно о своем кумире, но на этот раз не в прозе, а в стихах. Он поместил в «Москвитянине» элегию-оду-сатиру, под заглавием: «Искусство и правда»[4], где дал восторженную характеристику «грозному чародею» Мочалову, обрушился на выступавшую тогда в Москве Рашель, в игре которой он не нашел ничего, кроме фальши и искусственности, и пропел дифирамб Любиму Торцову, как национальному герою и «глашатаю истины»:
[1] Там же, с. 110, 146 и 147
[2] Там же, с. 167
[3] «Северная Пчела» 1853, № 39. Курсив везде Булгарина.
[4] В рукописи, хранящейся в Пушкинском Доме, «Рашель и правда».
…….театра зала,
От верху до низу, одним
Душевным, искренним, родным Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой [1].
Это стихотворение, верно выражавшее настроение кружка, но вызывающее по форме, дало враждебной критике повод к новым насмешкам над Григорьевым. Исключительна по своей грубости была насмешка М. А. Дмитриева. Григорьев в качестве эпиграфа к своему стихотворению взял стихи Лермонтова:
О как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!
Воспользовавшись этим эпиграфом, Дмитриев написал на Григорьева Эпиграмму, которая возмутила даже противников критика, эпиграмму такого рода:
Вы говорите, мой любезный,
Что будто стих у вас железный!
Железо разное: цена
Ему не всякая одна!
Иное на рессоры годно,
Другое в ружьях превосходно,
Иное годно для подков:
То для коней, то для ослов,
Чтобы и они не спотыкались!
Так вы которым подковались? [2]
Критика глумилась над «новым словом» Григорьева, но сама была бессильна понять Островского. Она порицала драматурга то за положительные, то за отрицательные типы и дошла, наконец, до того, что комедии «Бедная невеста» и «Не в свои сани не садись» отнесла к числу «слабых» и «фальшивых» произведений, а «Бедность не порок» охарактеризовала, как произведение «кичливой бездарности» [3]. А в это время Островский успел своими комедиями создать народный театр, снискать горячие симпатии общества и найти ряд последователей и подражателей, произведения которых охотно печатались в тех органах, где Островского
[1] Стих. Ап. Григорьева. Под ред. Александра Блока. Изд. К. Ф. Некрасова. М. 1916, с. 153–160
[2] «Москв.» 1854, т. II, отд. VШ, с. 20.
[3] Слова Добролюбова. См. Полное собр. сочинений, под ред. Мих. Лемке, т. I. Изд. А. С. Панафидиной. СПБ. 1911, с. 1–14.
зачисляли в разряд «кичливых бездарностей». При таком положении для выяснения значения Островского, как нового явления в литературе, нужно было говорить много и долго, а не ограничиваться провозглашением его «новым словом» и выражением восторга в стихах.
Это понял Григорьев и решил в 1855 году выступить с обширной работой о драматурге. По намеченному плану, он предполагал в ней сначала обозреть деятельность Островского, показать бессилие современной критики, понять и оценить драматурга, как новое явление в литературе, а затем выяснить значение последнего, как выразителя коренных основ нашей народной сущности. Для последней цели он решил избрать далекий и окольный путь, начать, выражаясь его словом, «ab оvо», а именно: он хотел было предварительно проследить историю отношений нашей литературы к народности, начиная с далекого прошлого и кончая его временем включительно, чтобы потом рельефнее оттенить особенный характер этих отношений в творчестве Островского, по сравнению с предыдущей литературой, и тем самым определить его значение, как народного драматурга, выводящего нашу литературу на путь самостоятельного творчества.
Таков был план работы, оставшийся далеко невыполненным. В первой статье, напечатанной в 1855 году в «Москвитянине», Григорьев лишь кратко обозрел деятельность Островского, проследил отношение к нему современной критики, бегло остановился на некоторых литературных памятниках старины и едва коснулся Посошкова. Вторая же статья, с пометкой в конце: «Продолжение в следующей книжке, а до окончания еще очень далеко», была запрещена цензурой. Это обстоятельство, а затем материальная нужда, болезнь и поездка заграницу были главными причинами, помешавшими Григорьеву закончить свою работу. Спустя несколько лет, Григорьев вернулся к вопросу об отношении нашей литературы к народности, главным образом, в своих статьях: «Взгляд на русскую литературу по смерти Пушкина», «Тургенев и его деятельность» и «Развитие идеи народности в нашей литературе». До некоторой степени эти статьи являются продолжением и углублением вопросов, затронутых в статье «О комедиях Островского». Тогда же он посвятил специально Островскому статью: «После «Грозы» Островского». А затем в последние годы жизни он уделил много внимания драматургу в своих статьях о театре.
Статьей «После «Грозы» Островского», написанной в форме писем к И. С. Тургеневу, Григорьев начал «новый курс», в котором он намеревался повести «долгие и совершенно искренние речи» [1] о значении деятельности Островского по поводу его последней драмы «Гроза». По своему содержанию этот курс не нов: Григорьев повторил и углубил в нем то, что он говорил уже о драматурге в своих статьях москвитяниновского периода. Но есть существенная разница в приеме или способе, каким пользовался Григорьев для выяснения значения Островского в своих
[1] Соч. Ап. Григорьева, под ред. Н. Н. Страхова СПБ. 1876. Т. I, с. 453.
прежних статьях и в этом последнем «курсе». Раньше он повел было свои рассуждения о драматурге издалека — «ab ovo», а теперь он сократил свой размах: «взял другой прием — кратчайший»[1], начал с возражения Добролюбову и непосредственной оценки драматурга.
Григорьев справедливо указал в своем «новом курсе», что Добролюбов, взглянув на Островского через призму теории, увидел в его произведениях только то, что отвечало его теории, закрыв глаза на то, что ему было не нужно, или этому ненужному дал произвольное истолкование, согласное с своей теорией. И потому неудивительно, что жизнь, изображенная Островским, представилась Добролюбову «миром затаенной, тихо вздыхающей скорби, миром тупой, ноющей боли, миром тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемого глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора, гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма». Над этим миром «буйно и безотчетно владычествует бессмысленное самодурство… не признающее никаких разумных прав и требований» [2]. На явную симпатию драматурга к таким чисто русским натурам, как Любим Торцов, Петр Ильич, Митя, Бородкин и Кабанов, на явную симпатию его к Большову, на любовный и трогательный характер семейных отношений, на типы русских матерей, на целый ряд нежных, глубоких и грациозных женских натур и т. д. — на все это, как ненужное ему, Добролюбов закрыл глаза. Целый мир, созданный художником, Добролюбов разрушил силою своего таланта, и на место живых образов поставил мертвые фигуры с ярлыками на лбу: самодурство, забитая личность, протестантка и т. д.
Зато «Островский, — замечает Григорьев — становится понятен, т. е. теория может вывести его деятельность, как логическое последствие, из деятельности Гоголя. Гоголь изобличил нашу напоказ выставляемую, так сказать, официальную действительность. Островский подымает покровы с нашей таинственной, внутренней, бытовой жизни, показывает главную пружину, на которой основана ее многосложная машина — самодурство»[3].
Григорьев допускает, что Добролюбов, как честный и искренний мыслитель, положил Островского на Прокрустово ложе не преднамеренно, а скорее бессознательно, основываясь на фактах, данных самим же драматургом. Деятельность последнего, как известно, не была единой и гармоничной. Произведения его, написанные в период, когда он стоял в центре «молодой редакции «Москвитянина», никакими сторонами не подходят под начала теории Добролюбова. В произведениях же, появившихся после распадения «молодой редакции», начиная с комедии «В чужом пиру похмелье»,
[1] Письмо Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову от 23 сентября 1861 г.
[2] Полн. собр соч. Н. А. Добролюбова, под ред. М. Лемке. Изд. А. С. Панафидиной. СПб. 1912. Т. 3, с. 322–323
[3] Соч. Ап. Григорьева, под ред. Н. Н. Страхова, с. 460–461.
Островский явно платит дань «современности» и даже «благодетельной гласности»: создает жиденькую, но честную фигуру Жадова, громящего своими тирадами и мир Вышневских, и мир Юсовых; создает честного механика-самоучку Кулигина, облеченного в немецкий костюм и обличающего русский быт и. т. д. Здесь Островский — не спокойный и объективный поэт, с любовью рисующий картины родного быта в произведениях первого периода, а писатель — с «лукавой тенденцией» [1], некоторыми сторонами своей деятельности подтверждающий теорию Добролюбова.
Григорьев с уверенностью полагает, что «Добролюбов, хотя и односторонне, но логически верно вывел теорию из внимательного изучения многих и притом весьма ярких сторон второго разряда комедий и потом, увлеченный страстью к логическим выводам quand même, вопреки самой жизни, подвел под логический уровень и комедии первого разряда» [2]. И Островский, таким образом, неожиданно превратился под пером блестящего критика-публициста в великого писателя, но только как обличитель самодурства нашей жизни.
Не отрицая относительной верности теории Добролюбова, Григорьев, однако, считает слово «самодурство» узким, далеко не обнимающим смысла всех жизненных отношений в произведениях Островского, и имя «сатирика» и «обличителя» мало идущим к поэту, который «играет на всех тонах, на всех ладах народной жизни» [3]. В этом убеждается Григорьев путем тщательного анализа всех произведений драматурга, написанных в первый период, т. е. с 1847 по 1855 г. включительно. В этом же убеждает его и отношение к произведениям драматурга массы, под которой Григорьев подразумевал не одну какую-либо часть народа, а то, что «в известную минуту сказывается невольным общим настроением» во всех людях без различия звания, положения и умственного развития [4]. Симпатии и антипатии этой массы в комедиях драматурга коренным образом расходятся с теорией Добролюбова. А это весьма ценный показатель, так как Островский, как, драматург, создавал свои типы не для кого-либо в отдельности, а «для массы, для которой он, пожалуй, как поэт ее, поэт народный, есть и учитель, но учитель с тех высших точек зрения, которые доступны ей, массе… с точек зрения, ею, массой, понимаемых, ею разделяемых»[5] . Особенно резко разошлась масса с Добролюбовым в понимании «Грозы», появившейся после «Темного царства». Эта драма, представленная на Александрийской сцене, произвела на массу исключительно сильное и глубокое впечатление не вторым актом, который, хотя с трудом, но все же можно подвести под теорию Добролюбова, а концом третьего, где «решительно ничего иного нет, кроме поэзии народной
[1] К. Леонтьев. Собрание сочинений. Изд. В. М. Саблина. М. 1912. Т. 8, с. 101-102
[2] Соч. Ап. Григорьева, под ред. Н. Н. Страхова, с. 466.
[3] Там же, с. 464.
[4] Там же, с. 454–455.
[5] Там же, с. 454.
жизни, смело, широко и вольно захваченной художником в один из ее существеннейших моментов, не допускающих не только обличения, но даже критики и анализа: так этот момент схвачен и передан поэтически, непосредственно… Вы знаете этот великолепный по своей смелой поэзии момент — эту небывалую доселе ночь свидания в овраге, всю дышащую близостью Волги, всю благоухающую запахом трав широких ее лугов, всю звучащую вольными песнями, забавными, тайными речами, всю полную обаяния страсти глубокой и трагически-роковой. Это ведь создано так, как будто не художник, а целый народ создавал тут. И это-то именно было всего сильнее почувствовано массою и притом массою в Петербурге, диви бы в Москве»… [1]
В подтверждение слов Григорьева здесь уместно будет привести мнение лица из той массы, о которой говорит критик, мнение К. Леонтьева, величайшего почитателя не Островского в «его всецелости», а таких его высоких произведений, как «Гроза», «Воспитанница», «Грех да беда», «Бедность не порок», «Бедная невеста» и т. д. Леонтьев еще студентом наслаждался этими чудесными произведениями и дома и в театре. Но, восхищаясь ими, он и юношей и в зрелом возрасте понимал их так, как понимал Григорьев, а не так, как Добролюбов. «До статьи Добролюбова — говорит он — нам всем, любившим тогда еще пьесы Островского, и в голову не приходило, что автор обличает все грубое и жесткое в быту старого купечества. Мы, любуясь в театре этими комедиями и читая их, воображали, напротив, что г. Островский изображает с любовью русскую поэзию купеческого быта… Аполлон Григорьев был только выразителем этого общественного чувства»[2] .
Анализ произведений драматурга и голос массы убеждают Григорьева, что имя для Островского — не сатирик и обличитель, а народный поэт. Ключ к пониманию его созданий — не «самодурство», а «народность», понимаемая в широком смысле, в смысле национальности. Стремление к народности началось в нашей литературе не с Островского, а гораздо раньше, но в деятельности последнего она определилась точнее, яснее и проще. В этом смысле Григорьев и назвал комедии драматурга «новым словом» в литературе, над которым так долго и жестоко глумилась враждебная критика. «Новое слово» Островского выразилось: во-первых, в новости быта, изображенного драматургом и до него нетронутого, если не считать некоторых рассказов Луганского и Вельтмана. Изображенная Островским жизнь — русская жизнь, его герои — типы русских людей; в миросозерцании, отразившемся в его комедиях, выразился взгляд на жизнь свойственный «всему народу, определившийся только с большею точностью, полнотою и, так сказать, художественностью в передовых его слоях».
[1] Там же, с. 449–450.
[2] К. Леонтьев. Собрание сочинений. Изд. В. М. Саблина. М. 1912. Т. 8, с. 101-102.
Под передовыми слоями Григорьев понимал «не касты и не слои, случайно выдвинувшиеся, а верхи самобытного национального развития, ростки, которые сама из себя дала жизнь народа»[1]. Во-вторых, в новости отношений автора к жизни вообще, к изображаемому быту и выводимым лицам в особенности. Отношение это было «объективное, спокойное, чисто поэтическое, а не напряженное, не отрицательное, не сатирическое», какое было у Гоголя, и «не сантиментально-желчно-болезненное», какое наблюдалось в произведениях петербургской натуральной школы[2] . В-третьих, «в новости манеры изображения», состоящей в объективном и жизненно-правдивом представлении жизни и человека, в противоположность творчеству Гоголя, изобилующему художественными гиперболами и лирическим юмором [3]. В-четвертых, «в новости языка, его цветистости, особенности». Герои Островского говорят языком своего сословия, причем это язык — не касты и не местностей, а русский язык, развившийся на основе его коренных этимологических и синтаксических особенностей[4].
Григорьев намеренно придал своей статье резко полемический характер, руководствуясь нескрываемым желанием вызвать на ответную полемику Добролюбова и других «тушинцев», как он обычно называл сотрудников «Современника». Но он ошибся в своих расчетах: по его же словам, от его статьи «приходили в восторг люди порядочные», но печатно ему никто не отвечал. Правда, потом ответил ему коротенько и, признаться, поверхностно Добролюбов в своей статье «Луч света в темном царстве», но это было уже месяцев через девять-десять после появления статьи Григорьева.
Это обидное молчание критики, а затем последовавшее недоразумение с редактором «Русского Мира», где печаталась работа, заставили Григорьева прекратить свой «курс» на первой же статье. А он надеялся вести долгие рассуждения об Островском, чтобы высказаться о значении его деятельности обстоятельно и до конца. Эта первая же статья из «курса», хотя и представляет собой законченное целое, все же далеко не выражает с достаточной полнотой и определенностью его взглядов на драматурга. Он не успел рассмотреть в ней произведений Островского второго периода и в связи с этим дать ответы на ряд существенных вопросов, только поставленных им в первой статье, а именно: «В самом ли деле Островский, начиная с комедии в «Чужом пиру похмелье», идет иным путем, а не тем, которым он пошел после первой своей комедии, в «Бедной невесте» и других произведениях? И который из этих двух путей указывало ему его призвание, если два пути действительно были (а они, эти два пути, являются необходимо, если только принять за объ
[1] Соч. Ап. Григорьева, под ред. Н. Н. Страхова, с. 469–477.
[2] Там же, с. 469.
[3] Там же, с. 469–470.
[4] Там же, с. 469–477
яснение деятельности Островского теорию Добролюбова)? И в котором из двух первых, равно капитальных произведений Островского, равно широко обнимающих изображенные в них миры — в «Свои люди сочтемся» или в «Бедной невесте» — выразилось в особенности призвание Островского, его задача, его художественно-общественное слово? И, наконец, точно ли есть в деятельности нашего первого и единственного народного драматурга раздвоение?…»[1]. Вопросы капитальной важности, но они, по мнению Григорьева, не только не разрешены, а скорее запутаны «Темным царством» Добролюбова. Без разрешения же этих вопросов Островский остается для нас таким же непонятным и загадочным явлением, каким он был в период появления «Бедной невесты».
В своих статьях о театре, напечатанных во «Времени», «Якоре» и «Эпохе», Григорьев уделил много места драматургу. В них он почти дословно повторил свой «новый курс» и разбор «Бедном невесты», взятый из статьи «Русская изящная литература в 1852 году», остановился еще раз на многих комедиях первого периода, углубив их понимание, и дал разбор многих комедий второго периода, особенно подробно остановившись тут на комедиях «Доходное место» и «Воспитанница». В этих работах мы найдем ответы на все вопросы, поставленные Григорьевым в «новом курсе».
Для Григорьева не было сомнения, что истинное призвание Островского выразилось не в «Своих людях», комедии «жестоких нравов», написанной в период, когда драматург находился под влиянием западников, а в «Бедной невесте», в которой он с любовью рисует картины родного быта — предмет беззаветных верований «молодого кружка», в центре которого стоял Островский. Но после 1855 года, когда распался кружок, в деятельности Островского определенно наметился уклон в сторону направления, выразившегося в «Своих людях», в чем несомненно сказалось влияние сотрудников «Современника», а вместе с тем и влияние духа времени. Ярче всего это влияние выразилось в «Доходном месте». В этой комедии драматург — не спокойный и объективный поэт, за что так ценил его Григорьев, а писатель с тенденцией, принесший «тирадами» Жадова дань современности. Драматург сам откровенно признавался Григорьеву, когда писал «Доходное место»: «тут будут наши гражданские слезы». (И Григорьев признает, что слезы эти действительно есть в комедии, но только не в «тирадах» Жадова, а «в героическом лице земского стряпчего и в грустной драме нашей жизни, жертвою которой гибнут благородные и честные стремления хоть и недалекого, но впечатлительного юноши» [2].
Не без влияния духа времени написана и «Воспитанница», произведение, правда, не менее великое, чем «Гроза» и «Грех да беда», но в которой изображены не бытовые явления русской жизни, а случайные и
страшные порождения ненормально сложившихся условий нашей жизни. Уланбекова — не Кабаниха. Кабаниха — могучий, но окаменелый характер, вышедший целиком из нашего векового, упрямого быта. Уланбекова — «слизь», навязанная нашей жизни историческими случайностями. Кабаниху можно ненавидеть, но мы не отвернемся от нее с таким омерзением, с каким отвернемся от Уланбековой. «Среда жизни, создавшая Уланбекову иная, нежели среда жизни, создавшая Кабаниху», а отсюда — «иной характер двух трагедий, которых они виною. Страшная необходимость господствует в одной, столь же страшная случайность в другой». Надя гибнет, упоенная чарами ночи. Виной гибели Катерины — не ночь, а «быт… вольный, молодой быт приволжского города, прорывающийся своими молодыми побегами сквозь окаменелые формы мрачных преданий, протестующий против них из начал столь же, как и они, эти мрачные предания, если не более еще, коренных и народных, протестующий своею широкой песней, широкой гульбой, широким и наипростейшим пониманием отношений мужчины и женщины; быт, в котором «наталкивают на грех» и овраг городской — узаконенное место гульбы, и ключ от калитки, и бойкая золовка с Ваней Кудряшом… Две жизни, равно исторически «сложившиеся, две системы понятий там борются»[1] … В зимний ли вечер, в летнюю ли ночь отдается Катерина — безразлично: протест здесь не в природе, а в быту. В «Воспитаннице» же главное действующее лицо — весенняя ночь, раздражающая нервы.
Этими двумя комедиями Островский главным образом заплатил дань времени, и к этим комедиям вполне приложим «умнейший кунштюк формулы» Добролюбова. Остальные же комедии драматурга второго периода, если и подходят под теорию Добролюбова, то лишь отдельными местами и притом с большой натяжкой. Возьмем для примера первую и самую спорную комедию этого периода: «В чужом пиру похмелье». Для Добролюбова все в этой комедии — «грубость, и отсутствие честности, и трусость, и порывы великодушия — и все это покрыто тупоумной глупостью»[2]. К этому миру драматург не мог иначе отнестись, как сатирически и с обличением. Для Григорьева «В чужом пиру похмелье» — контраст двух миров: одного, разобщенного с отвлеченным законом и цивилизацией, и другого, разобщенного с бытовой жизнью. В обоих мирах, вследствие их замкнутости, развилось самодурство до ужасающих размеров. Но этот контраст взят Островским отнюдь не сатирически, а чисто поэтически[3].
Подвергнув анализу и другие комедии Островского второго периода, Григорьев и здесь приходит к выводу, что Островский, если не считать его комедий «Доходное место» и «Воспитанница», — не сатирик и не обличитель, а национальный драматург, увековечивающий в своих произве
[1] «Якорь» 1863, № 42.
[2] Пол. Соб. Соч. Н. А. Добролюбова, под ред. М. Лемке. Изд. А. С. Панафидиной. СПб. 1912. Т. 3, с. 395.
[3] «Эпоха», 1864, № 3, с. 238–239.
дениях «коренные, стало быть, нормальные, органические типы народной жизни — порочные или добродетельные — это ему совершенно все равно, увековечивает притом sine ira et studio,
Спокойно зрит на правых и виновных,
не задаваясь ни сочиненным идеалом, ни раздражением» [1].
Вследствие незаконченности «нового курса» и других работ Григорьева о драматурге и разбросанности последних по разным журналам, некоторые критики, не собравши этих работ или недостаточно в них вдумавшись, неправильно истолковывали взгляды Григорьева на драматурга, полагая, что он смотрел на последнего, как на полного и всестороннего выразителя нашей народной сущности. Это ошибка. Полным очерком народной жизни для Григорьева был один только Пушкин. Островский же, по его взгляду, явился могучим, но односторонним выразителем только некоторых коренных черт нашего народного уклада, которые сохранились и жили по преимуществу в купеческом классе. Типы Островского — чисто русские, простые, по терминологии Григорьева — смирные типы. Но в нашей жизни имеются иные, диаметрально противоположные тины, а именно: пришлые, тревожные, по терминологии Григорьева — хищные типы, которых почти не коснулся Островский в своих комедиях и драмах.
По взгляду Григорьева, высказанному им еще в 1846 году, хищные и смирные типы — две стихии нашей родины. Первоначальный источник хищной стихии «варяги, элемент пришлый, бродячий завоевательный, элемент малый числом, но могучий нравственною силою, гордый сознанием этой силы и больше еще: запечатленный трагическою религиею Севера»[2]. Источником же смирной стихии являются славяне, элемент «оседлый, еще непосредственный, еще рассеянный, не собранный воедино, не перебродившийся», над которым взял верх, возобладал варяжский элемент[3] . Оттуда пошли и не одно столетие прошли вместе эти две стихии, неосознанные и непримиренные, бессознательно ведя между собой напряженную борьбу, следы которой отразились в нашей литературе. И только Пушкин, наш первый и единственный художественный синтез всего нашего прошлого, соединил в себе воедино и примирил на время эти два элемента, озарив их светом своего гениального сознания. «Пушкин, — читаем мы у Григорьева — гениальный Протей, совместивший в своей богатой шекспировской организации все направления, ему предшествовавшие, и, следовательно, на него должно смотреть, как на полный, художественный результат прежней, еще не достигшей самобытности литературы, и в нем не отдельно только, а слитно, совокупно найдете вы следы двух направлений, поколику они выразились в литературе, ему предшествовавшей»[4] .
[1] Там же, с. 234.
[2] «Финский Вестник» 1846, т. 9, отд. V, с. 24–25.
[3] Там же, с. 25.
[4] Там же, с. 26.
Так смотрел Григорьев в 1846 г. на хищный и смирный элементы в нашей жизни. Через тринадцать–четырнадцать лет, когда он писал свои работы о Пушкине и Островском, его взгляды по существу не изменились, но изменилось отношение к этим двум началам. Раньше явно чувствовалось, что его симпатии всецело склонялись на сторону смирного начала, и он, пожалуй, верил в его конечное торжество и даже желал этого. Теперь же он полагал, что пришлый элемент, в течение ряда столетий тяготея над русской жизнью, успел уже настолько видоизменить душевный уклад нашего народа, войдя в него неотделимой стихией, что без него для нас стала немыслима дальнейшая жизнь, и Григорьев радовался этому, потому что только одно наше смирное начало неизбежно привело бы нас к «застою, закиси и моральному мещанству» [1]. Но, признавая полезность этой пришлой стихии, Григорьев в то же время находил, что ее необходимо постоянно обуздывать, умерять нашим смирным началом и держать в законных пределах. Иначе, освободившись из-под контроля, она уже действует разрушительно и гибельно, как гибельно она подействовала на наши великие натуры: Лермонтова, Мочалова, Полежаева и др. Она же скосила и Пушкина, как только он на момент ослабил свою волю и дал ей свободу. Следовательно, нужно бороться не с пришлым началом, как таковым, которое само но себе полезно, а с его крайним проявлением. Так и поступал Пушкин. Он, признавая полезность и законность этой пришлой стихии, в своей художественной деятельности все время боролся не с ней, как таковой, а именно с ее крайним напряжением и чудовищным проявлением, до которых она доходила, вследствие тревожной волны романтизма и байронизма.
В эпоху отрицания и обличения Островский был для Григорьева «единственный коновод надежный и столбовой», но в нем не хватало «примеси африканской крови к нашей великорусской»[2]. И Григорьев страстно хотел, особенно в последние годы своей жизни, чтобы явилось новое дарование, которое затронуло бы новые струны народной души и таким образом дополнило бы Островского. Но этих мыслей Григорьев не успел высказать в своих статьях. Он только бросил их в неразвитом виде в письме к Страхову. «Островский, — писал он ему — только одна сторона моего верования. Если бы я верил только в элементы, вносимые Островским — давно бы с моей узкой, но относительно верной и торжествующей идеей я внесся бы в общее веяние Духа жизни… Но я же верю и знаю, что одних этих элементов недостаточно, что это все-таки только membra disjecta poёtae, что полное и цельное сочетание стихий великого народного духа было только в Пушкине, что могучую односторонность исключительно народного, пожалуй, земского, что скажется в Островском, должно умерять сочетание других, тревожных, пожалуй, бродячих, но столь же существенных элементов народного духа в ком-
[1] «Время» 1862, № 11, Совр. Обозрение, с. 73.
[2] Письмо Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову от 19 окт. 1861 г.
либо другом. Вот когда рука об руку с выражением коренастых, крепких, дубовых (в каком хочешь смысле) начал пойдет и огненный, увлекающий порыв иной силы — жизнь будет полна, и литература опять получит свое «царственное значение»[1].
Отмеченные и разобранные нами статьи об Островском с отдельными замечаниями о нем, разбросанными в большом количестве по многим другим статьям и письмам Григорьева, в общем дают нам верное понимание драматурга. Но собрать эти статьи и замечания и привести их в систему — труд, доступный для немногих, особенно при отсутствии издания полного собрания сочинений и писем Григорьева. Это обстоятельство, думается нам, и является одной из главных причин того, что по сие время господствующим взглядом на драматурга считается взгляд Добролюбова — взгляд односторонний, но выраженный с «соблазнительной ясностью» в статьях его «Темное царство» и «Луч света в темном царстве», а не взгляд Григорьева, более глубокий и верный.
Весьма ценным приобретением в смысле уяснения взглядов Григорьева на драматурга является печатаемая ниже его вторая статья «О комедиях Островского», в свое время, как мы сказали, запрещенная цензурой и теперь впервые появляющаяся в печати[2] .
По всем данным, эта статья была написана Григорьевым и сдана в печать во второй половине марта или в начале апреля 1855 года, т. е. вскоре после напечатания первой статьи «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», которая была одобрена цензурою к напечатанию 11 марта 1855 года. Не позднее первой половины мая статья, уже в корректурных листах, была направлена для разрешения к напечатанию в Московский Цензурный Комитет.
Цензор, которому поручено было рассмотрение статьи, проявил исключительное рвение в отыскании в ней «опасных» мест. Тщательно просмотрев статью, он отметил в ней карандашом целый ряд выписок из Посошкова и рассуждений самого Григорьева в связи с этими выписками, показавшихся ему «затруднительными» в цензурном отношении.
Прежде всего цензор обратил внимание на выписку из Посошкова в десять строк, смутившую его тем, что в ней «с особенным усилием доказывается неправый суд в России и говорится даже «о запустении во многих местах земли от неправды весьма, застарелой» [3]. Цензор соглашается, что эта мрачная картина, нарисованная Посошковым, относится ко вре
[1] Письмо к Н. Н. Страхову от 23 сент. 1861 г. Курсивы Григорьева.
[2] Эта статья вместе с делом о запрещении ее найдена нами в архиве М. Н. П., в делах Главного Управления Цензуры за 1855 год, под №№ 137–150, 918/136.
[3] Посошков цитируется несколько неточно. Курсив в отношении Московского Цензурного Комитета. СМ. ниже, с. 175. — Доклад московского цензора о статье Григорьева пока не найден. Берем выдержки из отношения Московского Цензурного Комитета в Главное Управление Цензуры по поводу статьи Григорьева от 17 мая 1855 года, за № 161, которое представляет собой, если не дословное, то близкое к тому повторение доклада цензора.
менам Петра Великого, современником которого был Посошков, но в то же время сомневается, не подаст ли «это повода к неправильным толкам, тем более, что автор статьи говорит, что «Посошковым начинается целый ряд возвышенных, резких отрицаний» (т. е. относительно правосудия), «отмеченных именами известных наших писателей» [1].
Остановившись далее на выражении Григорьева: «Посошков — представитель отрицательной стороны народного взгляда, основанной на пламенной вере в то, что «Бог правда, и правду Он любит» — вере по существу своему жгучей, сухой и тревожной — вере, которая способна была бы иссушить сердце, если бы в том же народе не умерялась столь же пламенною верою и столь же высшее положение, что «Бог любы есть»[2] — цензор снова выразил сомнение, что «эти выражения не могут ли усилить повод к ложным толкам о неправде, негодование на которую, по словам автора, отмечено именем Гоголя, следовательно, может продолжаться и поныне».
Затем затруднило цензора место в статье, где Григорьев, сопоставляя взгляд Посошкова на суд, как на дело Божие, с «весьма тонкою, философски развитою теориею о различии материальной и формальной истины», выработанною под влиянием римского права, писал, что по этой теории «разделили или, лучше сказать, разрубили все юридические отношения на две сферы: сферу отношений уголовных, в рассмотрении которой, по возможности, доискиваются материальной истины, и сферу отношений гражданских, в которых совершенно довольствуются истиною формальною, считая разыскание истины материальной нарушением прав частного произвола, составляющего душу, жизнь гражданского права — узаконивая, таким образом, недоверие частного произвола к обществу, с одной стороны, и с другой — давая место обществу только как пугалу в отношении к частному лицу»[3]. Эту мысль Григорьева вместе с целым рядом дальнейших мест в статье, поясняющих эту мысль, цензор признал «неприличными, могу-
[1] Григорьев цитируется не вполне точно. Курсив в отношении Цензурного Комитета. См. ниже, с. 175.
[2] Цитируем точно Григорьева. См. ниже, с. 176. В отношении Ценз. Комитета приведены только начало и конец этой цитаты и притом в несколько извращенном виде. В нем так: «Далее… говорится о вере в правду, жгучей, сухой и тревожной, которая могла бы иссушить сердце, если бы, в том же народе, не умерялась высшею верою и проч.».
[3] Цитируем точно Григорьева. См. ниже, с. 184. В отношении Ценз. Комитета приведены только начало и конец этой цитаты, чем был затемнен смысл текст Григорьева. Приводим это место из отношения: «Речь идет о ложном направлении юридических начал в Европе. Сказано даже, что, под влиянием Римского права, по этим началам «разделили или, лучше, разрубили юридические отношения на две сферы: отношений уголовных и отношений гражданских…узаконивал, таким образом, недоверие частного произвола к обществу только как пугалу в отношении к частному лицу». Курсив в отношении.
щими — особливо по свойству изложения тех мест, подать повод молодым людям к неправильному толкованию и о Российском законодательстве, в котором судебные законы с точностью разделены на уголовные и гражданские, а Римское право преподается в наших университетах, хотя автор статьи… словами: «но там, где жизнь не раздвоилась» и проч. дает чувствовать, что те места относятся собственно к законодательству Западной Европы».
Наконец, смутила цензора в статье Григорьева выписка из Посошкова, представляющая собой самое опасное место в книге последнего — проект: составить новую судебную книгу посредством представителей, выбранных от всех сословий, а особенно совет Посошкова: «написав тыи новосочиненные пункты всем народом освидетельствовать самым вольным голосом» и т. д. [1]. Это рассуждение, замечает цензор, «также не может ли подать повода молодым людям к ложным толкам о нашем законодательстве?»
Московский Цензурный Комитет, разделивший вполне соображения своего цензора, 17 мая 1855 года представил статью Григорьева в Главное Управление Цензуры «на разрешение — может ли она быть допущена к напечатанию и притом вся ли вполне или с исключением мест, отмеченных карандашом». По приказанию Министра Народного Просвещения, статья, вместе с отзывом о ней московского цензора, при отношении от 9 июня 1855 года, за № 1004, препровождена была для вторичного рассмотрения чиновнику особых поручений при Главном Управлении Цензуры статскому советнику Волкову.
30 июня 1855 года Волков представил о статье Григорьева рапорт на «благоусмотрение» Министра Народного Просвещения, в котором он прежде всего подверг критике отзыв о статье Григорьева московского цензора. По его мнению, опасения последнего относительно цитат из книги Посошкова, приводимых Григорьевым, во многом были неосновательны. Посошков — писатель эпохи Петра Великого, и все сказанное в его книге относится к тому отдаленному времени. И потому «нельзя никак допустить, чтобы замечания, мысли и советы Посошкова могли быть применены к настоящему времени, а тем более подать повод к каким-либо неправильным и ложным толкам. Суждения и мнения Посошкова о разных описываемых им предметах (то и другое одностороннее и часто неправильное) не могут ни для кого служить авторитетом: все, что казалось Посошкову хорошим и полезным в его время, бесполезно и никуда не годно для настоящего», с чем «согласится каждый, кто только прочитает его сочинение». Не опасен Посошков и потому, что книгу его читали и станут читать очень немногие, ибо «по своему содержанию и по своему языку она не принадлежит к легкому, доступному и удобопонятному для всех чтению, она годится только, как материал для историка».
[1] Курсив в отношении Ценз. Комитета.
Исходя из этих соображений, Волков полагал, что нет никакой надобности запрещать выписки из книги Посошкова, написанной им с «благонамеренной щелью». Но он был не последователен: в дальнейшем, как мы увидим, он сам же исключил из статьи Григорьева одну цитату из «благонамеренной» книги, как могущую подать повод к ложным толкам.
Не вполне разделил Волков опасения московского цензора и относительно собственных суждений Григорьева, не найдя в них, за исключением двух мест, ничего «предосудительного и вредного».
Таким образом, рассмотрев статью Григорьева, Волков нашел, что из всех мест, отмеченных в ней московским цензором, следует исключить только три » места:
Во-первых, суждение самого Григорьева, где говорится, что «Посошков — представитель отрицательной стороны народного взгляда, основанной на пламенной вере в то, что «Бог правда, и правду Он любит», и при этом присовокупляется: «вере по существу своему жгучей, сухой и тревожной — вере, которая способна была бы иссушить сердце, если бы в том же народе не умерялась столь же пламенною верою в столь же высшее положение»… [1]. Эти мысли Григорьева показались Волкову «противными понятию нашему о вере в благость и справедливость Божию: вера эта никогда не может быть жгучей, сухой и тревожной — она не может иссушить нашего сердца — напротив, она успокаивает нас и примиряет со многим в жизни. Этот несправедливый взгляд г. Григорьева на веру, заключает Волков, не может быть допущен в печати, и духовная цензура не допустила бы подобного рассуждения».
Во-вторых, пословицу, приведенную Григорьевым и не замеченную московским цензором: «Где явно — царь жалует, да псарь не жалует [2] — пословицу, опасную тем, что она, по мнению Волкова, могла получить неправильное истолкование и применение и вызвать разного рода замечания со стороны «некоторых известных чтецов и иных прочих лиц».
В-третьих, выписку из Посошкова, где высказывается пожелание, чтобы при составлении законов участвовали все сословия народа, от слов: «И сие мое речение многие вознепщуют, якобы аз Его Императорского Величества самодержавную власть снижаю; аз не снижаю Его Величества самодержавия»…. до слов: «И аще кто узрит»… [3] Исключением этого места Волков имел в виду «лишить читателя возможности делать какие-либо заключения о том, что Посошков, давая вышеупомянутый совет, имел при этом мысль о конституции, и чтоб скрыть эту мысль — прибегнул к оговорке».
«Предосудительного и вредного» в статье Григорьева оказалось немного. И потому можно было думать, что она будет допущена к напеча
танию, если не полностью, то с опущением опасных мест. Но Волков, набросив тень на московского цензора за его излишнюю придирчивость и пропуск одного «вредного» места, не пощадил и Григорьева, выдвинув в заключение новое основание для недопущения статьи в печати, редкое даже в цензурной практике: непригодность ее в литературном отношении. Он отказывался понять, к чему и с какою целью Григорьев поместил в своей статье о комедиях Островского такое большое количество цитат из Посошкова, не коснувшись совсем самих комедий и только раз упомянув имя Островского. Правда, можно догадываться, что «конечный вывод из этой глубокомысленной, а потому, может быть, и непонятной статьи г. Григорьева есть тот, что он желает доказать повторение типов, с воззрениями Посошкова и стольника Потемкина, в типах, выведенных в комедиях Островского. Но к чему все это? Какую пользу принесет литературе нашей и читателям помянутое доказательство? — Ровно никакой! Какое кому дело — знать, что в записках Посошкова г. Григорьев открыл воззрения на жизнь и людей, сходные с такими же воззрениями героев в комедиях Островского, каковы, например, Русаков и отец Петра Ильича? — Надо полагать, что г. Григорьеву нечего более делать, как сочинять подобные умозрительные статьи, а редакции журнала «Москвитянин» необходимо нужно, за недостатком дельных и умных статей, наполнять чем-нибудь страницы своего журнала». — Статья Григорьева по своему «неудобопонятному изложению, переполненному выписками из Посошкова, кроме наборщика и корректора, едва ли найдет себе других читателей», и потому литература наша и читатели ничего не потеряют, если она «вовсе не появится в печати».
Главное Управление Цензуры на VII заседании, состоявшемся 16 июля 1855 года, рассмотрев статью Григорьева и представленные о ней отзывы московского цензора и Волкова, нашло «многие выписки и суждения в статье неуместными в журнале литературном, и всю вообще статью, по направлению ее, признало неодобрительною по правилам цензуры, почему и определило: не дозволять оную к напечатанию».
Василий Спиридонов.