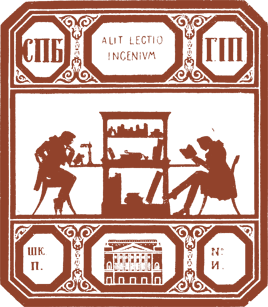Мои цензурные мытарства.
Из «Книги жизни».
Воспоминания П. П. Гнедича.
I.
Вместо вступления.
Я немало потерпел от драматической цензуры. С первых моих шагов, в течение, сорока лет, я испытал на себе весь гнет ее властной руки. И не надо думать, что это исключительно цензура Министерства Внутренних Дел. Это только предварительная стадия. Нет, еще много было градаций цензурных пропилей с такими заграждениями, которые приходилось или перескакивать (иные пролезают в подворотню), или возвращаться вспять.
С первых шагов моих, меня ожидало цензурное воспрещение. Первая моя одноактная пьеса, нелепо названная «Птичкой в западне» (кажется, это название ей дал Петипа, в бенефис которого она шла — в апреле 1879 года) — была снята со сцены по распоряжению Лорис-Меликова, бывшего на первом представлении в министерской ложе и нашедшего, что тип офицера, приехавшего из действующей армии, нецензурен. — Вторая моя пьеса — «На хуторе» — найдена синклитом членов Театрально-Литературного комитета (А. Н. Майков, И. А. Манн, А. П. Милюков и пр.), невозможной в смысле политической благонадежности, несмотря на предварительное одобрение цензуры Министерства Внутренних Дел. — Большой успех пьесы в московском Пушкинском театре не повлиял на это решение, и только после реформы 1882 года пьеса могла при новом Комитете войти в репертуар правительственных театров. Манн утверждал, что только наведя заряженные пушки на толпу, можно заставить смотреть «На хуторе». Все это оказалось вздором, и пьеса, идя по всей России, нигде не возбудила скандала.
Третья моя пьеса — «Женя» — была в первоначальном виде признана совсем нецензурной, и из трехактной обратилась в одноактную. Да и
одноактной пьесе пришлось ждать восемь лет постановки. — Савина не решалась ее играть, так как целый акт должна была лежать на кушетке. Впоследствии, она превосходно справилась с этим положением, и Женя была одна из лучших ее ролей.
Цензура все время насаждала нравственность и, главное, политическую благонадежность. Насаждала ли она их плохо, или другое что, — только в конце концов дело у нас кончилось революцией. В цензуре не допускалось затрагивать офицерства, и гвардейский мундир мог появляться на сцене только в исключительных случаях. Предпочитала цензура отставных военных и выше полковника чинов не пропускала. За то к гражданским чиновникам, в особенности к низшим рангам, относилась весьма свободно. Был один цензор, тайный советник, который «молодым чиновником» заменял все определения автора, до вольноопределяющегося включительно.
— «Вольноопределяющиеся готовятся защищать престол и отечество, а вы их вышучиваете»!, — поучал он авторов, и тщательно вымарывал все, касавшееся армии, гвардии и флота. Боборыкин рассказывал, как в одной его пьесе была фраза:
— «Был вчера в Аркадии, видел «Морского кадета», — какая гадость»!
Цензор вычеркнул «Морского кадета» и поставил: «Молодого чиновника».
— «Это оперетка»!, — объяснял Боборыкин.
— «А не намек на то, что полиция недосмотрела, и в увеселительный вертеп был допущен воспитанник военно-учебных заведений»?
— «Да ведь у меня названье-то в лапках»?
— «А как вы заставите актера сказать со сцены это в лапках? Ну, поставьте вместо «Кадета» — «Елену» или «Орфея», — тогда будет понятно».
Цензора не допускали на сцене не только прибавок к пропущенному ими тексту, но и вымарок.
— «Знаю я, что такое вымарки! объяснял мне один старец. — Купюра купюре розь! Я вычерков не могу допустить так же, как и прибавок. Например, «Отче наш», — кажется уж на что цензурная вещь, — а хотите, я ее вымаркой сделаю нецензурной? Я-с читаю: «да будет воля Твоя, да приидет царствие Твое…» — затем купюра— …«от лукавого». Каково? Можно это допустить? Отнюдь»!
С цензурой приходилось торговаться. То есть, взяток никто из членов этого почтенного учреждения не брал, но цензора имели обыкновение отметить десятка полтора нецензурных мест, — а потом начинали торговаться с автором. Пяток более невинных отметок им пропускался. Иные авторы, чтобы было пропущено нужное им место в пьесе, предварительно вставляли такую «нецензурщину», что она подлежала несомненному запрету. На ряду с этим «ужасом» уже желанная автору сцена не казалась рискованной и иногда проходила.
Очень ревниво относилась цензура к фамилиям действующих лиц, и если видела малейший намек на какое-нибудь должностное лицо, тща-
тельно их вычеркивала. Уже в двадцатом веке, будучи Управляющим труппой Александринского театра, я получил раз «конфиденциальное» предложение Главного Управления по Делам Печати заменить в пьесе Чайковского «Симфония» фамилию Кривошеина каким-нибудь другим именем, а Кривошеин невозможен, ибо имеется такой сановник. При этом Главное Управление само предлагало заменить Кривошеина Гореловым. Но я на это возразил, что тогда обидится актер Давыдов, которого настоящая фамилия Горелов; мне предложили тогда «Иванова». Но и Иванова нельзя было принять, так как мог обидеться музыкальный критик, декоратор, поэты…
Почти тоже было с одной моей пьесой. В первом акте «На хуторе» говорили о грозе:
— «От Сипягина чо-орная туча ползет».
А Сипягин был Министром Внутренних Дел. Вместо села Сииягина, поставили село Панютино — и тем устранен был злостный намек автора, — хотя пьеса была написана чуть не четверть века до того, как Сипягин сел на министерское кресло.
В 1902 году я ставил «Фауста» Гете. Мне хотелось провести и пролог на небесах, где говорит Господь. Я поехал к Шаховскому, который был тогда Начальником по Делам Печати.
— «Можно?» — спрашиваю.
— «Признаться, я забыл этот пролог, — откровенно сознался он. — Надо перечитать. Не думаю, чтоб Вседержитель говорил нецензурные вещи, но его, конечно, следует обозначать в афише «Светлым духом».
Шаховского я встречал у знакомых и с ним игрывал в винт. Кроме того, я знал и его брата, что был Эстляндским губернатором, — поэтому и решился на цензуру «нажать». Нажим оказался удачным: пролог пропустили, но с условием, чтоб Саваофа изображала актриса.
— «Понимаете, чтоб ничего общего не было с седым старцем. Возьмите такую, у которой густой контральто. И позовите меня непременно на генеральную репетицию».
Я остановился на Пушкаревой. Окруженная ангелами и архангелами (которые в афишах именовались светлыми духами), она, в длинном белом хитоне, ослепительно освещенная электричеством, беседовала с высоты тюлевых облаков с Мефистофелем, озаренным адским красным огнем. Шаховской отнесся к такому изображению весьма снисходительно, но пришел в ужас от «служебных» духов.
— «Пламенный меч у Михаила? — долой его, долой! Меч можно, но не пламенный. Потом — кадило у одного? И кадила нельзя. Еще из кадила вы дым покажите»…
— «Покажу».
— «Нет, нет, пожалуйста, — никаких кадил»!
В 1908 году, великий князь Константин стал мечтать о постановке «Бориса Годунова» Пушкина на усиление средств академического «Пуш-
кинского Дома». Я предложил ему официально обратиться к Обер-прокурору Святейшего Синода, так как драматическая цензура сама не имела права пропустить патриарха, и на сцене обыкновенно его монолог читался «старым боярином». Обер-прокурор прислал официальное отношение, что Святейший Синод не имеет препятствий к тому, чтоб Пушкинский «Борис» шел целиком на сцене. Другими словами: можно ввести в текст молитву, что читает после стола мальчик у Шуйского, и обряд пострижения, когда патриарх с клиром в полном облачении приближается к умирающему царю. Но правительственные театры никогда не воспользовались этим разрешением, которое в подлиннике мною теперь передано в Библиотеку Академических Театров.
Насколько сильна была цензура Министерства Внутренних Дел, явствует из того обстоятельства, что «царь Феодор Иоаннович» не мог четверть века появиться на сцене, хотя автор его, граф Алексей Толстой, был друг детства императора Александра II и считался правнуком мужа императрицы Елизаветы — Разумовского. Толстой усиленно хлопотал, но юродивость царя Феодора, значительно им смягченная и идеализированная, помешала попасть этой «вредной» пьесе на театральные подмостки. Только в 1897 году ее пропустили, и она прошла на частных сценах Петербурга и Москвы бесчисленное число раз. Но цензура Императорских Театров упорно отмахивалась от нее, и Министр Двора не допускал ее постановки. Она появилась на сцене уже после революции.
Цензурные запреты — явление до того нормальное в истории нашего театра, что не было ни одной выдающейся пьесы, которая не выдержала бы цензурного карантина. Началось это с «Ябеды» Капниста, при Павле I. Затем идут: «Горе от ума» Грибоедова; «Борис Годунов» Пушкина; «Маскарад» Лермонтова; «Дело» Сухово-Кобылина; «Воспитанница» Островского; «Свои люди» его же; «Власть тьмы», «Плоды просвещения» Льва Толстого, «Месяц в деревне» Тургенева, — вот печальный синодик цензурных запрещений. И запрещений каких пьес, которые составляют основание нашего репертуара! К этому списку можно еще прибавить и «Ревизора», кастрированного жестоко Ольдекопом.
Пушкин уверял, что Каченовский «застудил» журналистику, почему правильное течение месячных изданий сделалось при нем невозможным, и русская литература заболела «женской болезнью». «Каченовские от драмы» сделали тоже самое, только они затормозили появление огромного значения произведений не на месяцы, а на многие годы. Сколько времени «Горе от ума» ждало разрешения. И интереснее всего, что запретные произведения были хорошо знакомы читающей публике, потому что были допущены к печати; — более того, они нередко шли на частных, домашних спектаклях. И все-таки, цензура с упорством не допускала их представления на казенных и провинциальных театрах.
Иногда пьесы не шли не потому, чтобы они сами были нецензурны, но потому, что автор считался лицом вредным. Такова история поста-
новки «На дне» Горького на Императорской сцене. Горький был в это время не в фаворе у правительства, и хотя «На дне» было признано вполне цензурной пьесой, но мне был поставлен вопрос:
— «Будут ли вызывать автора»? Я отвечал утвердительно. Тогда мне сказали:— «Ввиду возможности выражения сочувствия со стороны публики Горькому, представление его пьесы нежелательно».
И пьесу сняли.Короче, такие запрещения давали часто комические результаты. Так было с «Королем» Юшкевича. Пьеса была хорошо срепетована Савиной, Давыдовым, Лерским, Петровским, Потоцкой. На генеральной репетиции ее сняли с репертуара, найдя неудобным затрагивать рабочий вопрос, занимавший автора. Но слух о ее запрещении разнесся по городу. Этим Савина воспользовалась, и, выговорив себе несколько спектаклей с благотворительной целью, — играла эту пьесу с успехом… на Императорской сцене.
Нецензурными считались не только русские, но и иностранные пьесы и оперы. «Заговор Фиеско» Шиллера был воспрещен, хотя его переводили усиленно. «Вильгельм Телль» воспрещен тоже. «Юлия Цезаря» Шекспира я еле-еле протащил через Главное Управление. «Призраки» Ибсена долго не могли удостоиться разрешения, хотя переводчик Ганзен обил все пороги в цензуре. На Матерлинка, Бьернсена, Стриндберга смотрели косо и одобряли условно.
Мне хочется поделиться с читателями теми впечатлениями, которые я вынес в течение сорока лет моей авторской деятельности, — от моих сношений и столкновений с цензурой.
II.
«Перекати-поле».
Летом 1889 года жил я в Павловске, когда ко мне нежданно приехал Боборыкин. Говорю нежданно, потому что Петр Дмитриевич носился метеором по всей Европе. То пишет письма из Вены, то из Рима, то из какого-то захолустного местечка Швейцарии или Германии. — Он везде чувствовал себя хорошо. Но поживет недели две, месяц — другой, — и потянет его дальше. В восемьдесят девятом году, он, кажется, поселился в Царском Селе, в меблированных комнатах, прохладных, выходивших окнами в густой старый сад, и там писал что-то целое лето. — «А я к вам с новостью, — оживленно заговорил он. — Вы знаете, есть такая актриса Горева. Что? Слыхали вы? Елизавета Николаевна Горева. Я ее очень мало знаю. Нас только познакомили. Она будущей зимой хочет в Москве держать театр. И предложила внезапно мне быть управляющим этого театра. В условиях мы сошлись. Я на всю зиму еду в Москву. — Что? Труппа огромная! Петипа, Стрельский, — все поступили на большие оклады.—Теперь я собираю от литераторов пьесы. Я хочу подобрать букет новых пьес. Я слышал, вы написали новую пьесу? — давайте».
Я только что окончил «Перекати-поле». Боборыкин выхватил у меня, прочел немедля и заявил, что из рук ее не выпустит и что он даст ее в первой половине сезона. — Отправился я в цензуру, к цензору Кейзеру, который только что безжалостно урезал роль станового, написанного мною в расчете на первого комика; его впоследствии и играли Давыдов и Музиль.
— «Я не могу пропустить его рассказа о пожаре, — сладко ворковал Кейзер, и даже закрывал глаза, как тетерев на току. — Во-первых, пожар кабака, это — следствие зарока крестьян — не пить. Что такое «зарок»? Это решение скопом. Это постановление мирской сходки. А всякие действия скопом воспрещены».
— «Но ведь мирские сходки разрешены? Стало быть, и их постановления цензурные…
— «В том-то и дело, что сходки разрешены, а всякие постановления скопом воспрещаются. Что кабак был подожжен по предварительному соглашению, — несомненно. Положение драматическое. Между тем при рассказе станового — публика будет смеяться. Подобный смех нежелателен. Когда становой приезжает и производит следствие, оказывается, все заливали огонь и никто не поджигал. Очевидно, по взаимному уговору покрывают преступников. Этого для сцены пропустить я не могу».
Я начал торговаться.
— «Ну, хорошо, кое-что я оставлю, но только для вас, — согласился наконец Кейзер. — Мой долг требует не пропускать таких фигур на сцену. И зачем эти французские фразы у станового? Конечно, и такие становые бывают, но это — не отличительный признак их должности: Напротив, — встречается как исключение. — Я знал одного станового, который прежде был гусаром; вышла у него какая-то история в полку, репутация была у него подмочена, и он вдруг сделался становым. Но выведите вы такую биографию в пьесе, — я не пропущу»…
— «Затем, у вас помещица Третьякова. — Она зовет себя беззащитным существом, а ее сам губернатор боится. — Не думаю, чтоб губернатор боялся дамы. Она ему неприятна — да. Но что он ее боится — этого я не могу оставить, вы извините… Вообще, мне кажется, — помещица эта несколько карикатурна».
Упреки в утрировке типа Третьяковой повторились потом и в отзывах печати. И в Москве — где пьеса шла дважды — в театре Горевой, и через три года в Малом театре, и в Петербурге, (где главное лицо пьесы, Любочку, по очереди изображали Савина и Васильева) — раздались те же упреки. Здесь Третьякову играли в очередь Жулева и Стрельская, в Москве Никулина. И в газетах и журналах писали, что они по мере сил смягчили грубый образ автора. Между тем меня если уж можно было в чем упрекать за Третьякову — так за вялость типа и, пожалуй, за близкую фотографичность.
Весь мой литературный век я никогда не подходил с фотографическим аппаратом к действующим лицам и не занимался фиксировкой исключительных характеров, — меня занимала по преимуществу типичность. Но в Третьяковой почти ничего нет сборного: она явилась точной копией с некой помещицы, теперь уже давно не существующей на этом свете… Цензор уверял меня, что ее бояться губернатор не мог, а ее боялись и сенаторы, ревизовавшие губернию. Она открыто шла против злоупотреблений и насилий, и те средства, что употребляла она, были порою слишком эксцентричны. Приехал раз сенатор на ревизию. Третьякова явилась к нему в приемный день и просила передать ему свою карточку. Через час, несмотря на уверения чиновника особых поручений, что его высокопревосходительство занят, она послала вторую карточку. Прошел еще час. Она заставляет чиновника, несмотря на его уверения, передать третью карточку. Сенатор рассерженный показывается в дверях.
— «Кто меня звал? Сударыня, вам я нужен? Но я очень занят. У меня серьезные дела. Мне некогда с вами беседовать».
Третьякова сделала ему книксен.
— «Извините, паше высокопревосходительство, что обеспокоила. Если бы я знала, что вы такой хам, я бы и не поехала к вам».
И это было сказано в присутствии тридцати просителей. Она повернулась и торжественно пошла к выходу, шлепая своими резиновыми калошами, которые надевала даже в сухую погоду. Тщетно хотел ее секретарь вернуть. Потом она писала в Петербург своему племяннику-министру.
— «Кого ты прислал к нам в губернию на ревизию? Какого-то старого идиота? Эта песочница вздумала кричать на меня? Скажи ему от меня, что он свинья и больше ничего».
Моя вина и том, что я по цензурным условиям вместо крупных столкновений взял ее борьбу с местным становым, который бежит при виде ее. Но критика не хотела принять этого во внимание.
Я говорил о цензуре правительственной. Но гораздо придирчивее цензура рецензентов. Невидимому, задача рецензентов — подходить только с художественной стороны к драматическому произведению. Но критики всегда, искони веков, выходили из этих рамок. Они громко заявляли, что автор не имеет права брать того сюжета, который берет он. Словом они говорят о том, что пишет автор, а не как исполнена его задача. Если бы Булгарин советовал зарубить Гоголю на стенке, что нельзя писать таких пьес, как «Ревизор» и «Женитьба», это бы куда еще ни шло. Но Белинский уверял, что «Горе от ума» не есть художественное создание, что в нем нет целого, потому что нет идеи, Чацкий ни на что не похож, а Софья не действительное лицо, а призрак[1]. Когда дали впервые «Чайку» Чехова — критики кричали, что это следствие размягчения спинного мозга у автора. Когда Тургенев написал в конце 40-х годов свои пьесы, уверяли,
[1] «Отеч. Записки» 1840 г., т. VIII.
что они несценичны, и успех их отдалили на полстолетия. Когда Островский впервые поставил «Лес», — его в Петербурге ошикали, а рецензенты нашли, что это полное падение таланта автора. Когда он дал «Волки и овцы» — говорили, что это неудачное произведение, которому суждена кратковременная жизнь!
Критики забывают свои прежние отзывы. То, что несколько лет назад им казалось плохим, потом они возносят на пьедестал. То, чем они восторгались, оказывается для них же «неприемлемым» через какие-нибудь три года. Все это накладывает тюремные оковы на свободное творчество. С одной стороны, критика подвергает пьесу публичной казни, с другой — специалисты дают ей премию. — Одно хорошо в критических отзывах прессы: на них можно не обращать внимания. Они влияют на первые три-четыре представления, — а на дальнейшие не оказывает никакого влияния. — Изруганные и смешанные с грязью произведения пережили и своих критиков, прожили десятилетия, полстолетия, и будто помолодели. Насколько кругозор их авторов был шире близорукого воззрения их критиков!
Автор отвечает и за неправильное толкование роли актером. У меня в «Перекати-поле» выведен тип князя Алсуфьева, который тронут модными тогда (в восьмидесятых годах) идеями Толстого. Но из этого не следует, что актер должен гримироваться Толстым. Это молодой, красивый, тридцатипятилетний породистый человек, с короткой, но моде подстриженной бородой, в опрятной блузе и высоких сапогах. Когда в последнем акте он является в сюртуке, — его голова, его прическа и манеры оказываются куда более подходящими к этому платью, чем к блузе. Его опрощенье было наносное, и его нормальный вид — конечно, «городской». А иные исполнители являлись в этой роли пожилыми, неопрятными, длиннобородыми субъектами, воображая, что они помогают автору, а не извращают его замысла. Та элегантность и аристократичность, которой был не чужд до последних дней Толстой, зачастую в нем прорывавшаяся, особенно при гостях, должна чувствоваться и в моем князе, — в его манерах, обращении, разговоре…
Когда мне доводилось выводить на сцену общие типы — меня упрекали в фотографичности, и даже в намеках на тех или других лиц. Когда я подходил к натуре слишком фотографично — меня упрекали в утрировке. В начале двадцатого столетия мною переделан был в пьесу мой роман «Ноша мира сего». Часть прессы забила тревогу, заговорили о том, что это чуть ли не пасквиль, а между тем те же факты, в том же интеллигентном поселке были описаны в том же освещении в книге Кривенка «На распутье», — об этом критики умолчали, передернув только карты, когда им было нужно. — В одном романе вывел я тип литератора-доносчика. Таких было у нас не мало. Один из критиков наших жестоко обиделся, найдя что я имею в виду именно его. Меня упрекнули в фотографичности типа. Я и не знал, что он занимался доносами.
«Перекати-полю» в истории нашего театра суждено было сыграть вот какую роль. Во-первых, ею открылся русский абонемент в Михайловском театре. Всеволожский захотел создать русский театр иного типа, чем Александринский, и пригласив на службу вместо самостоятельного Потехина на все согласного Медведева, затеял абонемент. Впрочем, он просуществовал всего два сезона, а потом в Михайловском театре на русских спектаклях опять образовалась пустыня. — Во вторых, это, кажется, единственный случай, когда пьеса, шедшая прежде на частной сцене, была поставлена на казенной. Бывали случаи — и то позднее — когда на казенной сцене и на частной ставилась одна и та же пьеса одновременно. — Это было в 1895 году со «Властью тьмы» Толстого: она шла, в Малом театре у Суворина и на Александринской сцене. Но это имело исключительный характер, потому, что автор в печати заявил, что его пьесы — общее достояние, — специальных условий с театрами он не заключает На постановку «Перекати-поля» в 1892 году в Москве может быть повлияло и то, что пьеса эта получила от Обществ Драматических писателей грибоедовскую премию.III.
«Гамлет, принц датский».
Еще гимназистом я принялся за перевод «Гамлета». При помощи моего школьного товарища, Карла Ивановича Тернера, англичанина, я кончил его в 1881 году. Но мне суждено было ждать его постановки целых десять лет. В середине 80-х годов он удостоился одобрения Театрального Комитета, сравнившего его с другими переводами. Но отсутствие декораций и костюмов, — (то что имелось в Дирекции было ужасно и отзывалось ветхозаветностью) — отдаляло постановку трагедии на много лет. С середины семидесятых годов, когда Нильский поставил «Гамлета» в свой бенефис, при чем Офелию очень неудачно играла Савина — трагедия эта не шла. Впрочем для дебюта Иванова-Козельского его поставили постом 1879 года, но это был случайный спектакль чисто-провинциального характера. — Рассмотрение моего перевода в Комитете как будто несколько подвигало вопросы постановки, как будто сама Дирекция шла навстречу этому. — «Матушка, говорил мне Потехин,— мы все новые декорации сделаем, костюмы сошьем, ученых экспертов-специалистов привлечем, — все в нашей воле». Однако, это так и осталось одним обещанием. При Потехине «Гамлет» поставлен не был… О причинах я скажу ниже. Когда чтение трагедии было уже назначено в Комитете, секретарь его, А. П. Шталь, с вежливой улыбкой заявил мне: — «Цензурный экземплярчик нам надо». Я изумился: — «Как? «Гамлета»? Шталь остался, как старый опытный чиновник, спокоен.— «А не все ли равно? «Гамлет»-ли, «Соломенная-ли шляпка» — нам нужно мнение Министерства Внутренних Дел».
— «Но ведь оно, кажется, уже высказало свой взгляд, допустив на сцену переводы Полевого и Загуляева».
— «Полевого и Загуляева мы можем играть беспрепятственно. А вот вашего текста у нас с соответствующею печатью нет. Ведь вы, быть может там, что-нибудь нецензурного напереводили».
Нечего делать, —п ришлось представлять экземпляры в цензуру. Там сидел тот же старик Кейзер.
— «Через недельку приходите», — заявил он.
Я объяснил ему, что мне разрешение нужно сейчас же. Он сжал губы, поморщился и стал перелистывать пьесу.
— «Хорошо-с, — со вздохом сказал он. — Завтра в это же время».
— «Да в чем же остановка? Чего вы опасаетесь»?, — недоумевал я.
— «Время идет, — возразил он. — Что можно было пропустить пятнадцать лет назад, того весьма возможно, нельзя допустить сейчас. У нас есть циркуляры».
— «Но какое же они отношение имеют к Шекспиру»?
— «Большое. Ведь публика, что идет в театр, наполовину не знает даже, кто такой Шекспир. Мы смотрим на текст помимо имени автора».
Словом, он сошелся во мнениях со Шталем.
Захожу на другой день. Кейзер встречает меня с торжеством.
— «Так и знал: нужна в одном месте переделочка. Да вы не пугайтесь: маленькая. Изволите видеть: принц… Положим он прикидывается сумасшедшим… говорит: «Дания — тюрьма».
Я вытаскиваю подлинник, и показываю ему:
— «Denmark’s a prison».
— «Знаю-с. И Розенкранц возражает: — «значит и весь свет тюрьма?» — А Гамлет настаивает: «Дания — одно из самых поганых отделений».
— «И это дословно: «Denmark being one o’the vorst».
— «Когда это писано? В конце XVI века? Кто тогда сидел на престоле Англии? Елизавета. Какое отношение она имела к Дании? Никакого. — А у нас Императрица откуда родом»?
Он ликующе посмотрел на меня.
— «Из Дании! Из Дании! — А вы заставляете актера сказать: «Дания— тюрьма, самое скверное отделение тюрьмы»!
— «Так как же по вашему надлежит передать это место?»,— полюбопытствовал я.
— «А вместо «Дания» пусть актер говорит: «здесь» — «здесь — одно из самых поганых отделений». Пусть он сделает неопределенный жест рукой. «Здесь», а где «здесь» — точно уловить нельзя. А первую сентенцию Гамлета «Дания — тюрьма» можно с успехом выпустить. Пьеса от этого не потеряет».
Он отогнул «ухо» загнутой страницы и зачеркнул кровавыми чернилами «Дания — тюрьма».
— «А все остальное я, так и быть, пропускаю. Как он ругает у вас короля! у Полевого это сделано куда приличнее».
— «Да ведь принц сам себя сравнивает с судомойкой и публичной девкой»?
— «Но на сцене императорского театра надо соблюдать благопристойность. Но я все пропустил, все. У вас остроты принца, когда он лежит у ног Офелии переведены благопристойно… А то бы, извините, если бы вы точно держались оригинала — я бы похерил».
Одобрение Комитета мало подвинуло дело постановки «Гамлета». Впрочем, тут случилось одно обстоятельство, которому надо приписать, может быть, эту оттяжку.
У Потехина была дочь Раиса Алексеевна—очень милая девушка, но плохая артистка, и вдобавок пришепетывавшая[1]. Она служила в Малом театре в Москве. Однажды Потехии мне и говорит ласково-преласково:
— «А я бы, матушка, просил вас: дайте Раисе сыграть Офелию».
Я несколько смутился от неожиданности.
— «Как же быть с Ермоловой? Ведь Офелия назначена ей»?
Потехин стал суров и холоден.
— «Я не знал, что роль уже предназначена ей. Ну, тогда уж, конечно, поздно. А только — не стара-ли она»?
Он посмотрел на меня как-то загадочно и лукаво улыбнулся. Тут только я вспомнил, что ведь ему подчинены и Московские театры.
«Гамлет» при нем не был поставлен ни в Москве, ни в Петербурге.
Пошел он уже при Медведеве, осенью 1891 года. И то причиной этой постановки был бенефис французского актера Люсьена Гитри на Михайловской сцене. Всеволожский на первый план ставил наш балет, хвастался, что он первый в мире, и сам рисовал костюмы для танцовщиков и танцовщиц. «Спящая красавица» была поставлена по его акварелям. Потом он на втором месте держал оперу. Третье же занимал французский театр — особенно потому, что его любила императрица Мария Федоровна. Только по ее желанию платили такие оклады, как 60 тысяч франков Иттемансу, старому комику, впрочем, скорее комику-буффу, чем характерному актеру. Потом шел немецкий театр — пока он существовал. И, наконец, в хвосте оставался наш бедный Александринский. Он был всегда нелюбимым детищем Дирекции. Всеволожский не любил там бывать. Чиновник особых поручений Бабин вместо Директора обязан был посещать драматические спектакли и докладывать о них Директору. Поэтому его должность носила наименование «контролер впечатления». Бабин говорил, что Всеволожский потому не бывает в «Александринке», что там пахнет «капустой», а этого запаха он не выносит.
Люсьен Гитри совсем юным актером появился у нас на Михайловской сцене. Теперь это один из лучших, если не лучший характерный
[1] О ней см. выше: с. 106, прим. 3.
актер в Европе и играет постоянно в Париже. Много лет подряд служил он в Петербурге, многому понаучился у Давыдова и Варламова, так как любил посещать русский театр, и уехал навсегда от нас вследствие какого-то столкновения с высокопоставленной особой на почве ревности в одном модном ресторане. Для прощального бенефиса он поставил «Гамлета». Реалист pur sang, он хотел и принца датского сыграть не трагедией, а в простом «жанровом» тоне. Его не поняли, — ни публика, ни критики, — и успеха он не имел.
Всеволожский выписал для его бенефиса декорации из Кобурга, из мастерской Лютке-Мейера. Так как Дирекция не обязана платить пошлин, то немецкие декорации обходились ей чуть ли не дешевле русских. Написанные свежо и сочно, но трафаретно и шаблонно, они могли нравиться публике, и понравились. Всю серию костюмов для трагедии нарисовал граф Соллогуб, талантливый любитель-театрал, живший постоянно в Москве. Серьезно знакомый с археологией, он сочинял костюмы весьма точные эпохе, но едва ли сценичные. При этом он не представлял себе того фона, на котором должны они показываться перед публикой. Поэтому нередко являлся диссонанс, а иногда какофония в тонах и в тех московских постановках, в которых он участвовал («Макбет», «Звезда Севильи» и пр.) и в том «Гамлете», что был преподнесен публике в бенефис Гитри.
Но написаны были для моей постановки и новые декорации: две для Петербурга и четыре для Москвы. Для Петербурга — две декорации для первого акта 1-й и 5-й картины, так как снежных видов Эльсинора не было; для Москвы — эти же декорации, кабинет королевы, и галерея для последней картины трагедии. Все это писал художник Гельцер — московский румяный немчик, уволенный впоследствии из театра за то, что его жена «нанесла оскорбление действием» Управляющему театрами; а поступок ее был вызван тем, что Управляющий позволял грубые насмешки над живописью Гельцера. Кабинет королевы был скомпонован пренелепо: молельня короля помещалась во втором этаже, в глубине, и оттуда Горев, изображавший короля, читал свой монолог, а Южин собирался там убивать его. Половина театра этой сцены не видела. Создана была декорация по рисунку самого Всеволожского, видевшего такую постановку в Вене и прельстившегося ею.
В Петербурге Медведев довольно равнодушно относился к художественной обстановке «Гамлета». Когда я заметил на репетиции, что на сцене мало мебели, что надо еще достать стульев и кресел, он ответил:
— «Да ведь в то время мебели не было».
— «Кто вам сказал?»,— удивился я.
— «Уж поверьте мне. У меня дома есть французские и немецкие увражи. Там изображение разных комнат, — и нет нигде признака мебели: ни столов, ни табуретов. Это все актеры потом выдумали».
Но мебель все-таки привезли из складов. Гораздо труднее оказалось найти в Петербурге Офелию. Во всей труппе, по мнению Медведева, не
было актрисы на эту роль. В это время рекомендовали начинавшую входить в славу на юге молодую артистку полуеврейку Томсон. Она приехала в Петербург и была принята. Для первого выхода она сыграла «Цепи» и довольно успешно. Потом, уже почти совсем больная, она выступала в Офелии, но после трех раз принуждена была лечь в клинику, где ей хирурги произвели опасную операцию вскрытия брюшины. Только весной она могла снова появиться на сцене, и трижды, с огромным успехом, сыграла драму «Листья шелестят». Это было ее лебединой песней: более она не играла и потом умерла от повторной операции.
Роль Гамлета в Петербурге играл Далматов. Никто не верил в его успех. Все лето на Кавказе он занимался этой ролью, тщательно разрабатывая и штудируя каждую фразу. К сожалению, встретился там с ним старый его знакомый доктор Оболонский, осмотрел его, нашел у него увеличенный сальник и предписал ему ванны и № 17 Эссентуков. Далматов точно исполнял его предписания и до того расхлябал свой энергичный организм, что еле-еле мог доводить до конца спектакля большие роли.
В «Гамлете», в переводе, конечно, Полевого, он выступал и раньше в Москве. Он был ошикан всем театром после третьего акта и, выйдя на вызовы и на шиканье залы, сказал:
— «Позвольте, господа, мне кончить роль, а потом будем спорить».
Эта выходка несколько умиротворила публику, но все же, после конца он был ошикан. Свободин, игравший и в Москве, и здесь в Петербурге, Полония, рассказывал мне об этом после одного из первых представлений, и он сознался, что не верил в шумный успех «Гамлета».
— «Далматов играл неузнаваемо, — сравнительно с Москвою, — говорил он. — Я думал, что мы играем на два, на три раза, — но, кажется, это прочный успех».
Он не ошибся. В один сезон «Гамлет» прошел восемнадцать раз. Но Далматов сыграл его только десять раз: с ним чередовался Дальский, сыграв принца шесть раз. А два раза играл приезжавший из Москвы Южин, выступив оба раза в Михайловском театре для абонемента.
Медведев несколько побаивался Далматова и его темперамента. Поэтому дублера назначили ему тайком от него и репетировали где-то под сценой, с другой Офелией, другим королем и Полонием. Потом все смешалось и перепуталось. Свободин-Полоний как-то был занят в Михайловском театре. Вместо него играл Осокин, не репетировав никогда с Далматовым. Это был провинциальный прием, который нисколько не смущал Медведева. Когда Далматов услышал голос не Свободина, а Осокина, который спрашивал:
— «Узнаёте вы меня, принц»?
Он оторвал глаза от книги, осмотрел с головы до ног нового Полония, и вместо «я тебя знаю», сказал:
— «Нет, не узнаю»! Монолог «быта или не быть?» он прочел однажды лежа на ступенях помоста назначенного для представления «Мышеловки». Директор Всеволожский, бывший в этот день в театре, долго не мог забыть этот прием, и у себя в кабинете демонстрировал гостям эту сцену, ложась на ковер, и опираясь головой о диван. Ни об одной пьесе не накопилось такого невероятного количества статей, как об этом возобновлении «Гамлета». У Далматова сохранялся огромный фолиант с вырезками. Тут были целые фельетоны, статьи, целая полемика, целые полунаучные исследования и замечания[1]. Со времени первого представления теперь прошло тридцать лет. Но я не только не отрекаюсь от тех положений, которые проводил тогда, но более чем когда-нибудь стою за них. Особенно ратовал против меня Суворин и Буренин: как я перевел слово bodkin —шилом, а не кинжалом. А я все-таки и теперь стою за то, что «bodkin» в монологе «Быть или не быть» имеет значение шила, а не кинжала. Так же я стою за то, что в том же монологе «conscience» имело значение «размышленье», а не «совесть». Один критик упрекнул меня за слово «карета»: Офелия приказывает придворному служителю подавать ей экипаж. Это точно отвечает тексту. Как же фрейлина двора приехала во дворец? Конечно, в карете, а не верхом, и тем более не пришла пешком.IV.
«Венецейский истукан».
Владимир Алексеевич Тихонов — человек талантливый и милый, постоянно по воскресеньям обедавший у меня, — пристал ко мне в конце 1892 года, чтоб я ему дал повесть для «Севера», который он тогда редактировал. Затруднение было в том, что он непременно хотел начать печатание этой повести с первого номера, а до выхода его оставалось много-много три недели. Я ему объяснял, что не могу ему дать рукопись именно сейчас, потому что пишу пьесу, написал ее уже наполовину, влез в нее по уши и не могу заниматься ничем другим. Он спросил меня: — «А как название»? — «Венецейский истукан». Я ему тут же рассказал сюжет. — «Знаете что! воскликнул он: — я не могу напечатать его в «Севере». Драматическое произведение в четырех номерах для начала года, — это ужасно. А вы переделайте вашу пьесу в повесть». Я стал отказываться. Он начал доказывать, что это чрезвычайно легко, стоит только всюду прибавить — «сказал он», «возразила она».Описательные места в повести совсем не нужны, важен только диалог; только форма его должна быть не обычная театральная, а беллетристического характера.
В конце концов, он уговорил меня. Сюжет, уложенный в четыре акта пьесы, я перелил в четыре номера «Севера» в виде исторического рассказа. Чехов, что был тогда на Рождестве в Петербурге, говорил:
— «А что вы думаете, — может быть, так и надо писать, освободясь от тисков и сценической условности и беллетристической сухости? Может быть, такая отшлифовка наших писаний нужна наиболее».
Как бы то ни было, повесть моя к началу февраля была уже закончена печатанием, и я приступил к ритуалу проведения пьесы через; драматическую цензуру и Театрально-литературный комитет. Ни одна моя пьеса не проходила с такой стремительностью через шлагбаумы этих инстанций. Цензор Альбединский пророчил пьесе большой успех и почти ничего из нее не вычеркнул.
— «Я не пропускаю ее безусловно, — извинялся он, — потому что «безусловно» одобряются только печатные произведения, а не рукописи».
Не менее благополучно прошла пьеса и через Дирекцию. Виктор Крылов, только что назначенный тогда Управляющим труппой, заявил, что он отводит ей место в середине сезона, и что она ему напоминает его «Девичий переполох». Не могу сказать, чтобы сравнение это было мне уж очень лестно, но для Крылова это было много. В Москве тоже ухватились за «Истукана», и даже на роль матери Коптева назначили Ольгу Садовскую. Имена Лешковской, Южина, Рыбакова, Макшеева, Музиля — давали блестящий антураж, и я совершенно успокоился до осени, в предвкушении счастья постановки пьесы одновременно на двух образцовых сценах. Вдобавок случилось следующее обстоятельство, увеличившее мое радужное настроение.
В Михайловском театре давали пьесу Пьера Вольфа «Les Maris de leurs filles». Она очень нравилась директору И. А. Всеволожскому, и он предложил мне ее перевести. Я охотно согласился, и в течение недели, весной 1883 года, сделал ее перевод. Когда Директор прочел его, он посоветовал:
— «Почему бы ее не переложить на русские нравы? Я ее хочу предложить в Москву. Как они там сыграют французов? — Главный, второй акт написан так, что и русские, и англичане, и итальянцы, — одинаково могут быть его героями. Если вам кажется это неудобным, снимите ваше имя, как переводчика, с афиши».
«Les Maris» дана была в Малом театре, после открытия спектаклей в августе 1893 года, с Южиным и Лешковской в главных ролях. Оба они имели большой успех, особенно во втором акте. Пьеса называлась «Брак».
Но она была не понята московскими критиками и третировалась ими как самое заурядное бульварное произведение мелких парижских театров. У нас в этом отношении есть заносчивость. Все чужое хорошо за морем. Но
как только оно попадает на нашу территорию, его начинают полосовать, в три кнута. Несколько лет позже, по предложению директора Волконского, я перевел только что поставленную тогда у Антуана комедию Брие «Заместительницы». Когда она дана была (в 1901 году) на Александрийской сцене, ее критики нашли тоже несовместимой с нашими идеями, и идеи о кормилицах и матерях, проводимые автором, совершенно чуждыми нашей жизни. На внешнюю талантливость сценической трактовки и на мастерской диалог не обратили внимания. Даже иные ценители восклицали: «К чему ставить Брие на русской сцене? Зачем? Что он, — классик?»
В начале октября приехал я в Москву на постановку «Истукана». Репетиции ладились: актеры дружно и весело взялись за дело. Ничто не предвещало бури, а между тем туча надвигалась.
Дня за два до первого представления, явился ко мне сотрудник «Московских Ведомостей» и стал снимать с меня соответствующие показания. Держал он себя «корректно», как говорили тогда, и не торопясь записывал мои слова. Катков тогда уже умер, и редактирование перешло к его преемникам. Я Каткова никогда не знал, но в «Русском Вестнике» были тем не менее напечатаны три мои повести, пьеса и две театральных статьи. Мне, молодому автору, было очень лестно печататься в органе, где Лев Толстой, Достоевский, Лесков, Фет — столпы нашей литературы — печатали свои вещи. Сотрудничество это как бы заставляло меня ожидать, что отношения и «Ведомостей» будет благожелательно. Но тут-то и оказалась с моей стороны ошибка.
Театр на первом представлении был переполнен. Смеялись много вызывали шумно. Актеры вели пьесу по тексту без малейших сокращений. Что полгода назад была напечатана в петербургском еженедельном журнале повесть того же названия, и совершенно совпадающая по диалогам с даваемой пьесой, — об этом никто не говорил. Особенный успех имел Рыбаков. Он был в ударе и действительно чудесно вел свою роль, — московского недалекого самодура, желающего поставить свой дом, вопреки дедовскому уставу, на новый, заморский лад. Только в самом конце пьесы, он, на согласие англичанина отужинать вместе, на его «yes», прибавил от себя: «и есть будем, и пить будем!» Хотя я и обратил на это внимание главного режиссера, но он мне ответил, что это превосходно и очень смешно, что прибавка сделана с его согласия и отменить ее — значит обидеть Рыбакова. Об авторе и его обиде даже никто и не заикался.
Мы засиделись после первого представления за ужином у Южина-Сумбатова до шестого часа утра. Меня поздравляли с успехом и пророчили «Истукану» длительный успех. А на утро — гром грянул.
На другой день явился ко мне какой то заикающийся молодой человек, совершенно мне неведомый, и, заявляя свое сочувствие и полную, со мной «солидарность», таинственно сообщил, что на меня готовится донос, что я обвиняюсь в кощунстве.
— «Куда донос? в каком кощунстве»?
— «Обо всем этом подробно будет изложено завтра в «Московских Ведомостях». Рецензия и заметка — «Кощунство на императорской сцене».
— «Кому же доносят»?
— «Министру Двора — это раз. Министру Внутренних Дел — на упущение драматической цензуры — два. Святейшему Синоду, другими словами — Победоносцеву. Здешнему митрополиту. Примите меры».
— «Да пусть себе их доносят на здоровье»!
— «Ой, не говорите! Пьесу могут приказать снять с репертуара».
— «На следующие два представления места все разобрали».
— «Знаю-с, — но это ничего не значит. Следует все-таки принять меры. Рецензент заявляет, что публика так была возмущена, что выйди автор на вызовы, — его бы растерзали».
— «Да ведь я же выходил, и никаких протестов не было»?
— «И это знаю. В театре я вчера находился. Меня именно и возмущает эта ложь»…
На следующий день обе статьи, действительно, появились в печати.
Управляющий московскими театрами был тогда Пчельников, раненый офицер, кажется, человек очень мало понимавший в театральном деле и державший себя с артистами, как помещик с дворовыми. Принимал он их в халате, надетом на нижнее белье, — даже актрис, и никогда не извинялся за свой туалет. Но он был при том человек весьма благожелательный, и весьма долго сидел на своем посту, дольше своих предшественников. Встретил он меня взволновано, позвав меня специально для совещания.
— «Надо принять меры»! — заговорил он. «Сейчас же телеграфируйте Директору, чтоб он не верил статье «Московских Ведомостей». Телеграфируйте о том же в драматическую цензуру. Директор сам передаст, что, нужно нашему министру. Садитесь, пишите сейчас же телеграмму — это необходимо, чтоб обелить и вас и нас. Вы хотели завтра уезжать? Нельзя-с. Вы должны быть свидетелем того, как пройдет второе и третье представление. А пока, — я вот для этого и режиссера вызвал, — вы должны кое-что убрать из текста».
Оказалось, что вся сила доноса заключалась в том, будто бы актер Музиль игравший странника, пел на сцене, да еще в комическом виде — «Свете тихий». Между тем у меня, по тексту пьесы, он говорит, смотря на потухающую зарю: «Ишь ты — свете тихий! Вот и там так, во Ерусалиме и в Киеве так, — да, везде солнце садится, везде встает. Чудеса!»
Пчельников настоял, чтобы слова «Свете тихий» были выкинуты.
— «Черт их знает — подлецы ведь. — Музиль не пел, а они говорят пел, — так вот он и поминать даже о свете не будет. И выйдет, что соврал рецензент».
Итак, мне пришлось остаться. На втором представлении, переполненный театр ждал кощунств и оскорблений. Хохотали, но сдерживались. После актов вызовов не было. Чернявский ходил хмурый. Но когда кон-
чидось последнее действие, вдруг зал точно прорвало: стали шумно, без конца вызывать участвующих, москвичи обрадовались, что кощунства никакого нет, и газеты ввели их в заблуждение.
Но «кощунство» сделало свое дело. На дальнейшие представления публика стала ломиться. У касс дежурили хвосты.
А в Петербурге уже ждали моего приезда. Я тотчас же отправился к Всеволожскому, и рассказал ему, как все было в действительности. Он поведал мне, что донос уже сделал свое дело, и Воронцов-Дашков, бывший тогда министром, потребовал экземпляр пьесы к себе, чтобы лично убедиться в преступлении Театрально-литературного комитета. К этому он прибавил:
— «Должно быть, читать пьесу и докладывать о ней графу, будет Василий Силович Кривенко. Вы его знаете. Поезжайте сейчас к нему и поставьте его в известность, как стоят дела, а главное, что никакого «Свете тихий» в пьесе нет».
Нечего делать — поехал я к Василью Силовичу. Он меня встретил сейчас после доклада Министру.
— «Ничего нецензурного в пьесе я не нашел, и граф решил чтобы немедля покончить с нелепыми толками, сейчас же поставить «Истукан» в Александринском театре. Вот я не знаю только, как стоит дело по Министерству Внутренних Дел? поезжайте туда».
Поехал я в драматическую цензуру. Там меня встретил Адикаевский бывший помощником начальника по делам печати.
— «Каковы московские прохвосты! Я велел снова написать доклад о пьесе. Покажу я им, как на нас доносить и жаловаться. Что вы! Вы литератор. Вам и след либеральничать, а мы должны вас перекрещивать красными чернилами. А вот мы, мы будто бы не знаем своих обязанностей! Наш цензор, что читал вашу пьесу, Альбединский, так взбесился, что хотел в свой черед обвинить московскую прессу в либерализме. Вы пройдите к нему, пусть он вам прочтет оправдательную записку, что сегодня же пойдет к Министру».
Альбединский, человек милый, деликатный и либеральный, насколько может быть либеральным чиновник служащий в цензуре, был очевидно, очень доволен своим сочинением.
— «Они обрушиваются на меня, как я смел пропустить фразу боярыни, где она говорит, что поп у них в приходе совсем не такой, как патер в новелле Боккачио, о котором рассказывает ей Юренев, и не станет покровительствовать любовным шашням своих духовных дочерей. Так вот я и пишу, что потому именно и пропустил эту фразу, что нравственность православного духовенства поставлена здесь выше духовенства католического. Очевидно, «Московские Ведомости» хотят обратного: чтобы наши служители алтаря, подобно итальянским патерам, вторгались в семьи и под видом насаждения нравственности только усиливали разврат».
Так что и с этой стороны, — и со стороны Министерства Внутренних Дел, — все обошлось благополучно. О Победоносцеве и Московском митропо-
лите я не заботился, — да они мало обращали внимания на театральные зрелища, и внимание их было обращено на предметы более важные, по их мнению.
Только что я успел дома, усталый ото всех этих перипетий, отобедать, как является театральный курьер. Просит меня видеть лично. Выхожу.
— «Виктор Александрович просят вас непременно приехать к началу спектакля. Очень важное дело. И всем нам велено быть в сборе. Приказано, чтобы я лично вам передал приглашение. Так и велели сказать, что, мол, действуют они по спешному приказу Директора».
Опять пришлось мне катить из Сергиевской к Екатерининскому скверу. Приезжаю. Крылов сух и холоден. Еле здоровается.
— «Министр приказал немедля ставить «Венецейского истукана». Я говорю Ивану Александровичу, что это ломает весь наш репертуар, но он говорит: «Министр приказал, значит рассуждать нечего».
Он отшвырнул какие то пьесы, бывшие у него а руках, и схватился за голову.
— «Помилуйте, как же можно вести серьезное дело, когда совершается вокруг такое насилие! Я заболею. Новых декораций и костюмов я вам дать не могу. Дам пять репетиций и только. Времени у меня нет, в обрез. Я заболею. Уж вы потрудитесь поставить пьесу сами, а меня оставьте в покое. Я хочу отлежаться: меня замызгали. — Я не знаю вообще, зачем нужна нам ваша пьеса после скандала в Москве? Чтобы и здесь скандал был»?
— «Здесь скандала не будет».
— «Вы потрудитесь убрать все фривольности, что позволяют актерам в Москве. Говорят, там Лешковская садится на колени к Рыбакову»?
— «Так ведь она по пьесе его жена»?
— «Я допустить этого не могу! Чтоб Савина сидела на коленях у Ленского! Нет — извините! пусть садится на ручку кресла».
— «Пожалуй, тогда придется поставить на афише имена двух авторов, — мое и ваше?», — спросил я.
— «И гонорар разделить на двоих?», — буркнул он.
С первой же репетиции он, действительно, сказался больным. Он об этом так и доложил Всеволожскому.
— «Вообще мое участие в постановке послужит только во вред, автору, объяснил он. — И без того пьеса эта заимствована из моего «Девичьего переполоха», а мои детали еще более подчеркнут это сходство».
Он везде уверял, что моя пьеса «взята» у него.
— «Он помешан на заимствованиях, — говорил мне Григорович, бывший Председателем Театрального комитета. — Он тащит отовсюду, откуда может, и ему все кажется, что его тоже все обворовывают. Это какая то клептомания».
В несколько дней, конечно, нельзя было срепетовать, как надо, сложную четырехактную пьесу, требовавшую ансамбля и сыгранности. Особенно
резко это проступало после Москвы, где щепкинские традиции ансамбля держались крепко. Только к пятому представлению получился в Петербурге сплоченной готовый спектакль, и актеры вполне овладели ролями, которые на первом представлении шли очень неуверенно. Мне написал на другой день представления Всеволожский письмо, где спрашивал — как я доволен спектаклем, и указывал на незнание актерами ролей. Должно быть, Крылов, когда ему было поставлено это на вид, отвечал, что ведь срепетовывал пьесу не он, а автор. Он бы никогда не рискнул показать публике неготовую пьесу. Обычный прием умывать руки гам, где есть малейшая возможность свалить свою вину на другого.
Крылов перенес представления «Истукана» в Михайловский театр, потому что к театру этому публика не привыкла, и сборов он не делал. Я вытерпел несколько представлений, но после седьмого обратился к Крылову с предложением перенести пьесу обратно на Александринскую сцену. Он распорядился этим беспрекословно.
П. Гнедич.