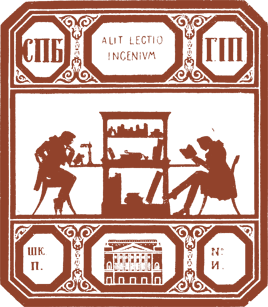Несколько мыслей о старинном русском театре.
Статья В. Н. Перетца.
I.
Наблюдая пути литературного, художественного творчества мы намечаем их два: путь медленного создания новых художественных ценностей путем естественной эволюции и — другой путь, усеянный перерывами основной традиции вследствие вторжения традиции чуждой литературы, иногда близкой, иногда далекой. Это вторжение вызывает катастрофические изменения в течении эволюции и создает такие продукты творчества, которые могут быть объяснены лишь как результат подражания, более или менее близкого перевода, комбинации элементов чуждой литературы с своим, хорошо знакомым, в духе его, но с сохранением комбинации элементов своих и чужих более или менее заметным.
Сказанное вполне применимо и к истории русской драматической литературы XVII−ХVIII в.в. и к истории театра в России вообще. Естественный ход развития театра в России предполагал бы тот же путь, который мы видим и в античном мире, отчасти — средневековой Европе, где литературная драма возникает из синкретического действа и из религиозного обряда. Но Русь подобного пути не прошла и естественно выросшей, своей, не заимствованной драмы — не знает. Попытки возводить начало русского театра, сложившегося в конце XVII ст., к народному хороводному действу — невозможны. О деятельности носителей «народной драмы» скоморохов — мы знаем очень мало, и то, что знаем — не укрепляет нас в мысли искать у них зародыша первых сценических представлений на русской почве.
История русского театра знает несколько пьес, преимущественно «разбойничьего» романтического характера. Но эти пьесы — частью восходят к обработкам переводных романов начала и средины XVIII в., частью — представляют собою инсценировку литературных произведений более близкой к нам эпохи (напр. «Братьев разбойников» Пушкина). История на-
шего старинного, а вслед за ним и народного — театра шла вторым из указанных выше путей, чрез заимствование чуждой литературной и художественной традиции. Отсюда вытекает и особый подход к изучению явлений старинного русского театра. Рассмотрение текста пьес в отношении сюжетов, ситуаций, способов сценического воплощения, бутафории и т. п. не может быть, так сказать, самодовлеющим. За каждой пьесой, поставленной и представленной на старинном театре в России, — где-то на заднем плане, у последней кулисы — чувствуется тот вдохновитель и руководитель, без которого не могло бы осуществиться представление: иностранец автор, режиссер, актер, декоратор, машинист и бутафор.
О первых — не говорю: разыскания Тихонравова и дополнения к ним Морозова показали это с достаточной отчетливостью; но и приемы игры, и материальная часть старинного русского театра — дают чувствовать иностранную указку. Достаточно указать хотя бы костюмы, грим и все аксессуары действующих лиц, особенно —аллегорических фигур, чтобы сразу увидеть в них копии с данных иконографии западноевропейского искусства, в частности театрального, хотя и с запозданием порою на 100 лет. Отсюда — тесная и неизбежная связь изучений старинного русского театра с изучениями театра европейского, без которых всякая речь о прошлом театра на Руси будет праздным пустословием.
II.
К изучению театра в его прошлом можно подходить с разных сторон. Но все многообразие подходов в итоге можно свести к двум:
к изучению литературной, словесной стороны театрального представления — и к изучению изобразительной, пластической стороны его. Не касаюсь сейчас материальной стороны, о ней стоит говорить особо.
Механическое заимствование из чуждой художественной традиции может взять далеко не все, а лишь — отчасти первое, и то постольку, поскольку точен перевод. Для усвоения второго — нужны особые условия, и вот почему.
Вещи существуют не сами по себе, а в том отношении и в той зависимости, в которой воспринимаются нашими органами чувств. Искусство, как продукт социальной жизни, есть явление двусторонней деятельности, именно, творца — и воспринимающей творение среды; художника — и зрителя; актера, певца — и публики, воспринимающей их творчество. Вкусы воспринимающей среды не равномерно и не однообразно реагируют на зрелище. Для примитивного зрителя нет драмы Ибсена, Гауптмана, Чехова; для утонченного ценителя драмы, как таковой, — не даст удовлетворения хороводное действо дикарей. Есть, правда, взгляд, сравнительно недавно высказанный в нашей литературе, что можно возродить «действо» но, этот взгляд грешит тем, что игнорирует данные исторического процесса. Нельзя искусственно переодеть нас всех в широкие одежды древней Руси или заставить всех думать так, как думали 300−400 лет тому назад; так нельзя
и тех, кто вкусил от творчества гениев нового времени, вернуть назад и прельстить примитивным хороводом. И обратно — вспомним отзывы русских путешественников о виденном ими в Италии в XVII в.: они были глухи и невосприимчивы к искусству Запада. Отсюда, стало быть, для восприятия впечатлений от художественного творчества вообще, а также и для воспроизведения заимствованного драматического произведения — необходимо иметь достаточно подготовленный интеллект и психику, способную вживаться в новые, чуждые и при том разнообразные переживания. Одним словом, подражанию, переносящему на свой театр чуждые первоначально последнему произведения, надобно иметь всю ту сумму культурных привычек, всю совокупность психических навыков, которые создают характер человека определенной эпохи и определенной среды.
Всегда ли, однако, заимствующий — и, как таковой, большею частью стоящий на низшей степени культуры, — обладает всем этим? Несомненно, ответ должен быть отрицательным. Приняв же это положение, мы не будем удивляться тому новому, тем своеобразным чертам, которые приобрели у нас заимствованные с Запада пьесы старинного театра, пьесы Мольера, де-Виллье, Чиконьини, Лоэнштейна, Марло и др.—и не только в тексте, но и в сценической интерпретации его. Я не хочу сказать, что эти новые ингредиенты русского происхождения в плане западноевропейской драмы были хуже того, что давал иноземный текст и сценическая практика. Мало вероятно, чтобы жизнь, быт в России эпохи царей Алексея и Петра I был значительно грубее, чем, напр., в Германии и даже во Франции (вспомним Жоделета); но все же они были иными, чем заграницей, а отсюда и то специальное cachet, которым отмечены русские переводы иностранных пьес, и русских подражаний иностранному. Нет сомнения, что не только тексты пьес, попавших на границе в XVII−XVIII вв. в русский репертуар, но и самые приемы сценического воспроизведения должны были получить особое cachet. Достаточно отметить, какая среда поставляла первых актеров, и кто был их руководителем на трудном поприще сценической деятельности. Следственно, имея перед собою пьесы упомянутых европейских авторов не следует думать, что они предстали пред русской публикой в своем настоящем виде. Чужое, чтобы стать русским должно было пережить своеобразную обработку, в результате которой из Дон-Жуана де-Виллье получился в итоге тот «Кедрил обжора», которого увековечил Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого Дома».
III.
Виновато ли тут время, в которое мы живем, или своеобразная аберрация нашего исторического мышления, — но при взоре на прошлое русского театра наш взгляд поражается своеобразною статичностью старинного театра по сравнению с XIX веком и особенно с началом ХХ-го. XIX-й век, расставшись с важностью классической трагедии и воскресив
Шекспира, в какой-то лихорадочной, болезненной торопливости добегает до кинематографической драмы, передав ее ХХ-му веку.
Эта «статичность» старинного театра заключается в устойчивости типов, положений, драматических форм, — и в методе сценической реализации мыслей драматурга, т. е. в игре актера. Известны слова Гамлета об игре современных ему актеров, — о «детине, разрывающем страсть в клочки». Оно и естественно: несложное по сравнению с позднейшим миросозерцание, — я бы сказал неосложненность психики пестротой и обилием переживаний — влекло за собою и несложный комплекс для передачи психических состояний действующих на сцене персонажей. Мир, веривший, что истина едина, цельна, однообразна, и мир, признавший, что истина может быть многогранной и относительной, — конечно должны были дать и в действительности дали и различные процессы психических переживаний, и различную комбинацию и мотивировку их и — само собою разумеется — различные способы воспроизведения на сцене этих переживаний. Новый мир с его осложненной психикой потребовал и от актера новых шагов на пути утончения и интеллекта и психики. Старая манера держалась устойчиво и долго не хотела сдаться; но наплыв новых актеров сделал свое дело. Вспомним трагикомические жалобы старого комика Аркашки на «образованных», у которых нет «никакой игры». Аркашка был, видимо, по замыслу Островского, — как и его трагик, Геннадий Несчастливцев, — одним из «последних могикан» старой школы, традиционно связанной с преданиями старинного театра.
Статичность последнего находит себе объяснение и в условиях исторической жизни европейского общества. Медленный темп жизни, естественно, не мог не отразиться на сценическом воспроизведении, которое когда-то знало иные времена и от них унаследовало искрометную живость итальянской комедии.
Другою характерною стороною старинного русского театра, также, видимо, унаследованною от медленного темпа жизни в старину, — является его условность. На Руси эта условность, в значительной степени свойственная и оригиналам занесенных к нам пьес, — еще более схематизировалась по указанным выше историческим причинам.
IV.
Условный по существу, унаследовав от средневековья и Ренессанса схематичность и стилизацию — наш старинный театр объединил в шаблонном воспроизведении итоги различных литературных и театральных школ наложив печать однообразия на все заимствованное извне.
Достаточно только перечесть изданное Тихонравовым, Петровским, Георгиевским, Богоявленским, мною и др. в области старинного велико русского репертуара и Петровым, Резановым, мною — в области репертуара украинского, чтобы убедиться в справедливости высказанного положения.
Что было причиной этой схематизации, этого как бы униформирования сценического материала, — и именно там, где наблюдается громадное, пестрое, поражающее глаз разнообразие стилей и красок (тут заимствования из итальянского, французского, английского, германского, из средневекового и иезуитского школьного —и из светского репертуара)?
Великий Леонардо хотел летать; но при данных ею времени он не мог преодолеть силу сцепления, силу трения частей машины; не мог создать малый, но сильный мотор. Чисто материальные, казалось бы, причины помешали ему стать преемником мифического Дедала и осуществить свои гениальные замыслы. Но не одни материальные причины: недоставало и знания не родившейся еще тогда высшей математики.
В области театра наблюдается нечто аналогичное. Правда, машинисты и декораторы старого итальянского и французского театра к XVII-му веку давно уже преодолели материю; и искусство их — чисто материальное — легко было перенять сметливому, бойкому русскому человеку. Но чтобы подняться к солнцу искусства —этого было мало, мало было этого, чисто материального искусства. Надо было актеру (а не машинисту) дорасти до творца драмы; ему надо было развить в себе те психические навыки, которые помогли бы понять, пережить и воспроизвести сложный мир, созданный грезами поэта, и не порвать грубым движением души нежную ткань его постройки. А это могло осуществиться лишь тогда, когда психика вышедшего из общественных низов актера приблизилась к психике автора; когда первый стал не рабом, покорным государству (XVII в.), шедшим на сцену «по наряду», и не рабом, отдельного лица (XVIII в.), делавшимся артистом по прихоти господина, безмолвным исполнителем велений пославшего его, а свободным человеком и художником (полов. XIX в.), и главное — соперником, соревнующим автору, — сознательным исполнителем его замыслов, его alter ego, его сотрудником в создании художественных ценностей, порою идущим даже далее поэта, углубляющим понимание созданного им образа.
От рабского театра XVII и XVIII вв., отчасти крепостного и в начале XIX в., — до «Художественного театра» — целая пропасть, которая может быть перейдена лишь внимательным изучением психики русского общества и театральной среды названного времени, с учетом роста культурности в нем и среде деятелей сцены (а не только бутафоров, машинистов и плотников).
Установив это, мы поймем, почему старинный русский театр не знал той утонченности духа, которою отличается новая драма. Ему чужды были многообразные оттенки чувств и настроений, которые искрятся перед ними в драме нового времени, находя себе у нас едва ли не конечные достижения в творчестве Чехова. Жизнь и характеры к тому же — давались авторами пьес проще и прямолинейнее. Чтобы воспроизводить их — не нужно было ни головоломной выдумки, ни тяжких творческих мук.
Следует помнить, что именно в таких-то условиях — при склонности авторов к схематичности (вспомним, напр., женские персонажи русской ко-
медии XVIII в.) и при малой культурности актера — легче всего создается готовый шаблон, готовый трафарет, которому, не обременяя своей совести тревогой неудовлетворенности мог следовать исполнитель роли, заменяя ремесленной. выучкой формул — живое творчество. Техника актера требовала, как и сама жизнь, небольшого разнообразия приемов, требовала резких контуров, а не полутеней. Отсюда ясно, как легко было старому театру приобрести ту статичность, о которой выше сказано, и ту условность, которая граничит с мертвым схематизмом.
Но можем ли мы настолько проникнуть в процесс игры на сцене старинного русского театра, чтобы объективно и документально утверждать, что эта условность и схематичность — не выдумка не игра нашего воображения? Отчасти и во многих случаях можем. Стоит только изучить режиссерские ремарки к старинным пьесам, — и мы убедимся, что хотя эти пьесы сохранили только мелкие и, на первый взгляд, не всегда существенные указания автора и режиссера, однако все же здесь мы имеем достаточно выступающее указание на характер игры. Игра старинного актера была необходимо не реалистической, а условной. При этом, в силу господствующей схематизации, порывы к реальности (см. в Гамлете) — роковым образом обращались в свою противоположность. Это объясняется еще и тем, что является естественным в наше время, когда актер — есть художник, которому пластическим материалом служит его тело, музыкальным — его голос. Этой лепки из своего материала, сознательной и вместе с тем для каждой роли индивидуальной, — старинный театр у нас не знал. Все было готово, просто, предопределено и вместе с тем условно. И актер и зритель знали, напр., что женщина с распущенными волосами, в платье данного цвета — означеет «милосердие», с мечем — «отомщение», с сердцем пылающим — «любовь». И актер и зритель знали целую серию незамысловатых «приличных театру игрушек», предусмотренных немудрой традицией.
Старинный театр, с нашей точки зрения, давал лишь общее, схематическое, а не реальное воспроизведение жизни. Даже в сценах, напр., с гаером и его похождениями, казалось бы изображенными в ультрареалистических красках — мы имеем в сущности шаблон, по которому разыгрывался ряд персонажей: и Эрсил «издевочный слуга» и храбрый воин Сусаким, разные гаеры, шуты и шутовичи; то же сказать нужно и о «молодках», Касеньке и т. п. женских персонажах.
Старинный театр пришел к нам с Запада и, как там, так и у нас, он был условным, а не реалистическим, как и поэзия XVII и XVII в., несмотря на то, что поэтика и Понтана, и Доната, и Массена, и Буало — с их подражателями требовали подражания природе. Как это случилось?
Дело в том, что каждая литературная и художественная эпоха понимает эту «природу» по своему — и по своему ее воспроизводит во всех областях искусства. И герои масок были, конечно, уверены, что они дают не призраки, а самую жизнь. Ибо жизнь как в их понимании, так и в
воспроизведении, была несложна и комбинировала ряд вариаций в одном зачарованном круге.
V.
Русский старинный театр до недавнего времени изучался лишь с одной стороны — со стороны историко-литературной, при том и то односторонне, именно в отношении источников пьес старинного репертуара. Это была первая очередная задача, и можно только приветствовать труды Тихонравова, Морозова и немногих их последователей. Но все прочее, относящееся не столь к истории драматической поэзии, сколь именно к истории самого театра, изучалось у нас случайно и неглубоко. Несколько публикаций об устройстве театра, о бутафории и костюмах, о выписке актеров — вот и все, что осталось от архивных разысканий ученых XIX ст. Этому были и свои причины: театром, собственно историей драмы, занимались у нас исключительно историки литературы, чуждые театру, как таковому. Вот почему едва ли не впервые серьезно обратил внимание на театральную сторону старинной драмы только проф. Резанов (в своем обширном исследовании «Школьная драма и театр иезуитов»), использовав отчасти данные заграничного школьного театра XVII в. для объяснения театральной обстановки и иконографии некоторых персонажей русской драмы конца XVII — начала XVIII вв. Для времени, немного более близкого к нам, для средины XVIII в. довольно, много было сделано г. Всеволодским-Гернгроссом, работы которого, не взирая на некоторые дефекты, в свое время и мною отмеченные, все же остаются крупными и значительными приобретениями для истории русского старинного театра. Им недостает некоторой систематичности, нет своего рода «стержня», основной идеи, но материал, собранный трудолюбивым и знающим театральное дело автором, всегда будет иметь цену.
И невольно, при мысли о систематическом изучении судеб старинного театра в России, всплывают в уме вопросы, на которых стоит остановиться.
1. Выяснена ли точно библиография старинного русского театра? Попытки для такого выяснения были, но в каком отношении можно верить им? Ведь возможно, что по рукописям в старых сборниках находящихся в библиотеках и архивах частного характера, да и в официальных архивах — таятся еще и до сих пор пьесы, недоступные пока глазу исследователя: счастливые находки последних лет — гг, Богоявленского и Шляпкина, дают основание думать, что мы знаем далеко не все, что заключалось в старом репертуаре — конца XVII и начала XVIII вв. Что же касается средины XVIII в., то с этого времени и до конца века лежит громадное количество пьес в рукописях, в Библиотеке Гос. театров, и кто знает, когда сведения о них попадут в печать. А пока этого не сделано, пока этот обширный материал не вовлечен в научный оборот, мы не можем сказать с уверенностью, что знаем наш старинный театр.
2. Изучена ли сюжетность драмы старинного русского театра? Безусловно мы должны дать отрицательный ответ. А без выяснения ее мы
лишены возможности судить об интересах и вкусах и старых драматургов и их зрителей. Но эта работа возможна лишь при наличности ответа на первый, выше мною поставленный вопрос.
3. Изучен ли литературный стиль пьес? А ведь без этой подготовительной работы мы, во-первых, не всегда можем разобраться в датировке пьес, не имеющих точного, документального приурочения к определенному времени. Во-вторых, мы лишены возможности судить, какими сторонами своего творчества авторы воздействовали на зрителей, вызывая у них эстетические эмоции.
4. Далеко не выяснены также соотношения многих пьес с западноевропейской и польской драматургией; не определено — кроме некоторых пьес старинного украинского репертуара — это соотношение и на русской почве. А ведь в XVIII в. каждый брал свое добро там, где находил его; понятия о литературной собственности не были еще так строги, как в последующем веке, и степень самостоятельности многих пьес и их эпизодов — требует внимательного разъяснения, и при том не только в целях историко-литературных: готовые повторения — будь то целые сюжеты, будь то детали, отдельные положения (ситуации), отдельные тирады, меткие слова — все это играет роль и не малую при том и по отношению к чиста театральной стороне дела.
5. Старинный театр в России хотя и был явлением заносным, но все же творцы его обладали некоторым запасом более или менее сознаваемых теоретических представлений о задачах театра, о построении пьесы, о реализации замыслов автора актером, режиссером и другими тружениками театра. Знать теоретические основы театра необходимо для здравой и исторически верной оценки его. Ведь подходить к оценке старинной пьесы с нашим, современным критерием — вещь бессмысленная: смешно думать, что люди жившие и творившие два столетия и более тому назад могли руководствоваться теориями нашего времени. Стало быть необходимо воскресить, воссоздать теоретические воззрения на искусство театра, на построение и исполнение драмы, существовавшие во все главные моменты старинного театра и уже по мерке, созданной современниками его — ценить его достоинства и недостатки. Такие теоретические и исторические статьи есть, их стоит извлечь из области забвения, как и старейшие театральные рецензии несколько позднейшей эпохи, также почти неиспользованные. Тогда то мы получим прочный исторический базис для эстетической оценки старинного театра.
6. Много труда потребуют вопросы об устройстве и организации театра, об актерах, их культурном и образовательном уровне. Чтобы понять сущность того процесса, которым двигался у нас старинный театр, надо знать условия, в которых шла жизнь его деятелей; надо знать и тех, кто был самым значительным участником в этом процессе, наших первых актеров и их ближайших преемников, создавших определенную сценическую традицию, по-видимому, не всегда и не во всем совпавшую с тако-
вою же заграницей. Здесь мы должны охватить разнообразнейший материал — начиная с данных о происхождении актеров, их образовании, быте, положении в обществе и службе — и кончая оценками их сценического творчества, дававшимися современниками, и анализом техники их игры, если позволит материал. Все это — получит особую цену и значение, если мы изучим также культурный уровень той среды, в которой они действовали и вкусам которой зачастую подчиняли свое вдохновение и творчество. Здесь историк театра соприкасается с историком культуры вообще, с психологом, а это, конечно, еще более усложняет конечную задачу его исследования.
7. Старинный театр, как мы уже сказали, почти совсем не изучен со стороны режиссерской: мы почти незнаем, как ставились пьесы. Более того — мы почти ничего не находим в известных работах по истории старинного театра в России — относительно приемов игры, как средства вызвать те или иные эстетические эмоции у зрителя. А между тем материал для этого есть на лицо. Правда, в одних пьесах его очень мало, зато в некоторых как напр. в «Акте о Колендре и Неонильде» — его дано с избытком много: Это — режиссерские пометки, сопровождающие текст сплошным комментарием. На основании их можно составить довольно отчетливое представление и о постановке пьесы, о бутафории, о костюмах и главное — о технике актерской игры. А зная уже об устойчивости сценических приемов в конце XVII и начале XVIII вв., мы на основании анализа данных нескольких пьес этого момента будем вправе заключать с достаточною вероятностью, как играли актеры данной эпохи.
8. Вопрос о взаимодействии зрителей и актеров ставился в последние годы не раз. Старинный театр и с этой стороны предлагает любопытный материал. Перед многими пьесами мы находим предисловия, — обращения к зрителям; в иных случаях —встречаем подобного же рода послесловия. Анализ их будет полезен для решения поставленного вопроса.
С углублением в историю старинного театра, количество таких вопросов будет, вероятно, умножаться. Но решение их всегда будет зависеть от решения первого вопроса в связи с деятельными архивными разысканиями.
В. Перетц.