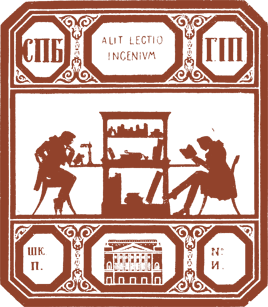II.
О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене [1].
(Продолжение).
Статья А. А. Григорьева [1].
И донележе прямое правосудие у нас в Poccии не устроится, и совершенно не укоренится оно, то никакими мерами от обид богатым нам быть, яко и в прочих землях, невозможно, такожде и славы добрыя нам не нажить, понеже все пакости и непостоянство в нас чинятся от неправаго суда и от нездраваго рассуждения и от нерассмотрительнаго правления и разбоев. И инаго воровства много чинится, и всякия многия обиды содеваются в людех ни от чего инаго, токмо от неправаго суда; и крестьяне, оставя свои домы, бегут от неправды, и Российская земля во многих местах запустела, и все от неправды, и от нездраваго и от неправаго рассуждения. И какия гибели ни чинятся, а все от неправды!..
….«А без урону, я не чаю, установитися правде, а прямо рещи — и не возможно правому суду установитися, аще сто другое судей не падет: понеже у нас в Руси неправда весьма застарела». (Соч. Ив. Посошкова. Москва. 1842 г., с. 87, 85, 86) [2].
Эти слова Посошкова, человека, котораго самая природа была так устроена, что сердце кипело у него при виде всякой неправды, человека, который, подписываясь мизернейшим рабичишем [3], подавал самые смелые проекты — выражают крайнюю степень того взгляда сверху, которым, отмечены его поистине драгоценные сочинения. На первый раз, этот взгляд покажется столько же отрицательным, как и взгляд Котошихина — но различны основы обличения «вельми застаревшей на Руси неправды» у двух этих писателей, представляющих собою две стороны русского отрицания. У Посошкова отрицание выходит из того высшего положения, которым начинает он свою глубокомысленную главу «О правосудии»: «Богъ правда: правду Онъ и любитъ. Аще кто восхощетъ Богу угодить, то подобаетъ ему во всяком дѣлѣ правду творити», — по-
[1] Примечания к статье см. ниже, с. 191 – В. С.
ложения, которое переходило у него в плоть и кровь, в убеждение души. У Котошихина отрицание — работа одной головы и притом головы, оправдывающей разврат сердца: беглый дьяк, явный прелюбодей и, наконец, убийца, подпадший уголовной каре даже на чужбине — Котошихин не был уполномочен на отрицание, как уполномочен на него Посошков, и мы нисколько не обязаны уважать его отрицательного взгляда, тогда как, напротив, на веру должны принимать то, что говорит [4] Посошков, который не только отрицал, но и полагал, целую жизнь делал дело, целую жизнь словом и примером собственным проповедывал: «чтобъ дней своихъ никакiе люди даромъ не теряли, и хлѣба бъ даромъ не ѣли: Богъ не на то хлѣб намъ далъ, чтобы намъ его, яко червiю съѣвъ, да въ тлю претворити. Но надобно, хлѣбъ ядши, делать прибытокъ Богу и Царю своему, и всей братьѣ и себѣ, дабы не уподобитися непотребному червiю, иже токмо въ тлю вся претворяет, а пользы ни малыя людямъ кромѣ пакости не содѣвает». (Соч. Посошкова, с. 105).
Одним словом, повторяем опять: обличение и отрицание «вельми застарѣвшей неправды» выходит у Посошкова из основ его идеальнjго взгляда. Мы увидим, как строго и сурово оно, увидим, как [5] оно даже односторонне и иногда узко в отношении к живой жизни народа, но должны почтить его, должны признать его относительную законность. Им начинается целый ряд возвышенных, более или менее резких, более или менее пламенных, более или менее правдивых отрицаний во имя идеала, — отрицаний, отмеченных именами Кантемира, Фон-Bизина, Грибоедова, Гоголя. Посошков — представитель отрицательной стороны народного взгляда, основанной на пламенной вере в то, что «Богъ правда: правду Онъ и любитъ» — вере по существу своему жгучей, сухой и тревожной — вере, которая способна была бы иссушить сердце, если бы в том же народе не умерялась столь же пламенною верою в столь же высшее положение, что «Богъ любы есть» [6].
Вера в правду, необходимо порождающая желание осуществить на земле идею правды и, притом, если брать эту веру в крайних проявлениях ея, — осуществить во что бы то ни стало, хотя бы и не без урону, употребляя выражение Посошкова [7] — по существу своему есть отрицательная, ибо выражается всегда в отрицательном, обличительном отношении к неправде жизни. Полагает она на место отрицаемого только общие идеальные основы, иногда весьма смутно, но всегда более или менее личным созерцанием сознаваемые. Тем оно выше, тем плодотворнее, чем яснее эти основы, чем они объективнее, действительнее, чем более стираются личные причины раздражения и заме- няются высшими нравственными. За раздражение беглого дьяка Котошихина, основанное на личных и, притом нечистых побуждениях, за раздражение других его последователей, которые недовольны окружающею их действительностью, потому что нет в ней простору их через меру утонченным потребностям, — потребностям развратным, положим хоть
посреди этой только, их окружающей действительности, нельзя дать медного гроша: оно не есть ярость по правде, но только злорадство неправде: оно под своим личным углом зрения всякую частную и случайную мерзость возводит в общее, и само в себя подрывает веру, потому что, выводя на посмех черты мелкие, забывает, по злонамеренности или по нравственной тупости, воздавать должную справедливость чертам крупным, как будто другие так все слепы, что их не увидят. Поясним примером: когда Котошихин, а вслед за ним и иные, основывающееся на его словах, рассказывают, что «Россiйскаго государства люди породою своею спѣсивы и необычайные ко всякому дѣлу, понеже въ государствѣ своем наученiя никакого добраго не имѣют и не пpieмлют, кромѣ спѣсивства и безстыдства и ненависти и неправды» [8], они и не замечают, что возникает неминуемо вопрос, откуда же брались и где имели «наученiе» столь многие думцы Московского государства, промышлявшие о государстве: в сношениях ли с Ордою, в малолетство ли государей, в смутные ли годины бедствий народных, вожди на ратном поле, которым местнические счеты не мешали знать ратное дело? И так как означенный приговор свой Котошихин произносит по поводу «неразумiя» будто бы в делах внешних сношений, то спрашивается, откуда брались и где имели «наученiе» окольничие и стольники, правившие посольства в чужих краях, умевшие то стойкостью, то ловкостию поддерживать неуклонно достоинство государственное; — откуда в них самих, в этих, например, Потемкиных, Чемодановых, Лихачевых и иных, бралася такая крепкая вера в свое государство и его достоинство, в исстари завещанные формулы сношений, вера в достоинство своего народа, в превосходство коренных понятий своего быта, — откуда бралась в них такая раздражительность при столкновении с обычаями, противоречившими этим коренным понятиям? Чтоб не ходить далеко, вырываем наудачу почти место из посольства Потемкина во Франции.
«Приходилъ къ посланникамъ Откупщикъ Маршалка Дюка де Грамона, и говорилъ: чтобъ ему Посланники велели дать сто дублоновъ золотыхъ пошлины со всего, что у нихъ есть Посольскаго платья и всякой рухляди. И Стольникъ Петръ и Дьякъ Семенъ ему говорили: Купецкихъ людей съ нами и товаровъ никакихъ нѣтъ, кромѣ Посольскаго платья, и никто ни чего у насъ не продавывалъ, имать тебѣ у насъ пошлины не съ чего. И тотъ Откупщикъ увидѣлъ у Посланниковъ Образы окладные, Спасовъ да Пресвятыя Богородицы, и говорилъ: Не токмо де съ вашего Посольскаго платья, и со всякой рухляди пошлину возьму, да и съ Образовъ, что на нихъ оклады серебряные съ каменьемъ и съ жемчуги. И Стольникъ Петръ и Дьякъ Семенъ ему говорили: Врагъ Креста Христова! какъ ты не устрашился такъ говорить, что съ Образа Создателя нашего и Господа, Iucyca Христа, Сына Божiя, и Пречистыя Его Матери, Пресвятыя Богородицы, что на тѣхъ Святыхъ и честныхъ Иконахъ утварь устроена по нашей благочестивой Христiанской вѣрѣ, и ты и съ тою хочешь пошлину, скверный песъ,
взять? Не токмо было тебѣ съ тѣхъ пречистыхъ Иконъ пошлина имать и съ Посольскаго нашего платья и съ рухляди ни коими мѣры иматъ было не мочно, по тому посланы мы отъ Великаго Государя нашего, отъ Его Царскаго Величества, къ Великому Государю вашему, къ Его Королевскому Величеству, для великихъ Ихъ Государскихъ дѣлъ и для братскiя дружбы и любви; а купецкихъ людей и товаровъ никакихъ съ нами нѣтъ, для того и пошлинъ имать тебе съ насъ было не мочно. А видя твое безстыдство и нравъ звѣрскiй, какъ псу гладному, или волку несыту, имущу гортань восхищати отъ пастырей овцы, такъ meбѣ бросаемъ золото какъ прахъ. И выговоря ту рѣчь, Стольникъ Петръ бросилъ ему сто золотыхъ своихъ двойныхъ на землю. И брося ему тѣ золотые, взялъ съ него писмо на Голландскомъ языкѣ за его рукою, чгобъ было про то вѣдомо у Королевскаго Величества въ Парисѣ, съ чего пошлину взялъ тотъ Откупщикъ» [9].
Несомненно, кажется, что раздражение посланников, изумленных еще прежде безнарядицею государства, где откупщик Маршалка Дюка де Грамона без пошлины пропустить их не хочет, когда таможенный откупщикъ королевский пропускает — где явно — царь жалует, да псарь не жалует [10] — основано на началах весьма ясных и твердо сознаваемых, на возвышенных понятиях религиозных и на возвышенных же понятиях о международных отношениях, «потому посланы» они «для великихъ Ихъ Государскихъ дѣлъ и для братскiя дружбы и любви». Откуда же все это бралось, как мыслимы такая высота и твердость взгляда, если наученiя никакого они не пpиняли, кромѣ спѣсивства и безстыдства?
Предупреждаем обвинения в частых уклонениях, к которым принуждены мы прибегать в нашем рассуждении, принявшем по обстоятельствам полемический характер. Эти уклонения в отношении к критике нашей имеют цель несколько педагогическую. Обличая на каждом шагу свое совершенное незнакомство со всем тем, что не нынешнее, не вчерашнее и не третьегоднишнее, доказавши это недавно даже перепечаткою завещания историка Татищева в виде неизданного памятника и сочинения какого-то г. Солнцева, — она сама требует педагогических указаний на понятия, язык и чувствования неведомого ей, но доселе ведомого всей Руси миpa, — которого современное выражение назвали мы для вяшщаго ее соблазна «новымъ словомъ». Под всяким приводимым нами примером критика должна подразумевать повторение одного и того же вопроса: чей это язык, чьи это понятия и чувствования? — сверяя все это, в виде упражнения, с тою или другою страницею той или другой драмы Островского, сличая Русакова, например, или отца Петра Ильича, как типы, с воззрениями Посошкова, или стольника Потемкина, или кого придется из русских людей. Естественно, и даже самой критике понятно, что такое сходство основ не есть что-либо списанное или изученное, что оно Островскому, как художнику, а не критику, не ученому специалисту — далось весьма просто, синтетически, что поверка типов старыми типами, в настоящую минуту нами производи-
мая, могла явиться только как пояснение возникших недоразумений — что, наконец, этого сходства сдѣлать не можно, ибо если художник приступит к таковому деланию, не имея в душе непосредственного синтезиса, то он только иссушит воображение. Вообще, умом до этого не дойдешь. Но можно и должно доходить умом и изучением до пояснения подобных явлений в мире искусства — и мы думаем, что критика наша, в которой никак не хотим мы отрицать возможности добросовестности, не обидится за те указания, которыя мы себе позволяем, и под конец даже согласится с нашими выводами, наведенная этими указаниями на многие соображения, до сих пор не обращавшие на себя должного с ее стороны внимания. Оговорившись таким образом, обращаемся снова к Посошкову, как к одному из типов, завещанных нам старою народною жизнью, и, с другой стороны, как к первому по времени из представителей отношений мысли к народности [11].
Как высоко ставил Посошков свойства своего народа — всего лучше выражают слова, которые издатель его сочинений поставил на них весьма справедливо в виде эпиграфа, золотые слова из донесения боярину Головину: «Много Нѣмцы насъ ушлѣе [12] науками, а наши остротою, по благодати Божiей, не хуже ихъ, а они ругаютъ насъ напрасно». Свято бережет народность, подозрительно смотрит на отношение к ней других народностей, не доверяет их дружелюбию: веря в науку, не верит в учителей… «Я истинно, Государь, не помалу дивлюся и недоумѣваюся, что сказываются Нѣмцы люди мудры и правдивы, а учатъ все насъ неправдою»… (с. 272). «Вѣрить имъ, — говорит он далее, — вельми опасно: непрямые они намъ доброхоты, того ради и ученью ихъ не весьма надобно вѣрить. Мню, что во всякомъ дѣлѣ насъ обманываютъ и ставятъ насъ въ совершенные дураки» (с. 273). «Мне, Государь, весьма сумнительно въ иноземцахъ, — а праведно ль я сумняюся или блазнюся, про то Богъ вѣсть, только то я совершенно знаю, что они всѣхъ земель торгуютъ торгами и всякими промыслами промышляютъ компанствами единодушно, и во всякихъ дѣлѣхъ себя они и свою братiю хранятъ и возносятъ, а насъ ни во что вмѣняютъ» (с. 272). «Нѣмцы никогда насъ не поучатъ на то, чтобы мы бережно жили, и ничего бъ напрасно не теряли; только то выхваляютъ, отъ чего пожитокъ какой имъ припалъ, а не намъ» (с. 126). «Ей, Государь, — говорит он еще в донесении своем боярину Головину, — надобно отъ нихъ опасатися, потому что свой своему по неволѣ другъ, и никогда иноземецъ не сверстаетъ съ собою Русскаго человѣка» (с. 284). «И о семъ моемъ изъявленiи, чаю, что будутъ на меня гнѣваться, и если увѣдаютъ о мнѣ, что не на похвальбу имъ написалъ, всячески будутъ тщатися, како бы меня опроверщи. Я ихъ множицею видалъ, что они самолюбы, а намъ во всякомъ дѣлѣ лестятъ, деньги манятъ, а насъ всякими вымыслы пригоняютъ къ скудости и безславiю» (с. 212, 213). Его опасения за народность простираются до крайней степени исключительности: мало знакомый, как и вся его эпоха —
не только в России, но во всей Европе, с общими политико-экономическими законами, сам создававшей их из тех данных жизни и торговли, которые были у него под руками, Посошков видит повсюду и видит отчасти справедливо хитрость иноземцев, — советует поступать с ними покруче. «Хотя они и хитры, — говорит он, — въ купечествѣ и въ иныхъ гражданскихъ расправахъ, а аще увѣдаютъ нашего купечества твердое положенiе о возвышенiи цѣны, то не допустятъ до двойныя цѣны; будутъ торгъ имѣть повсягодно, видя бо наше твердое постоянство, всячески упрямство свое прежнее и гордость свою всю и нехотя отложатъ: нужда пригоняетъ и къ поганой лужѣ. Для насъ хотя они вовсе товаровъ своихъ къ намъ привозить не будутъ, мню, можемъ прожить безъ товаровъ ихъ; а они безъ нашихъ товаровъ и десяти лѣтъ прожить не могутъ. И того ради подобаетъ намъ надъ ними господствовать, а имъ рабствовати передъ нами, и во всемъ упадокъ предъ нами держать, а не гордость» (с. 121, 122). «Намъ о томъ, — прибавляет он в другом месте, — весьма крепко надобно стоять, чтобы прежнюю ихъ пыху въ конецъ сломить, и привести бы ихъ во смиренiе, и чтобы они за нами гонялись» (с. 139). Полный крепкой и основанной на материальных фактах веры в неисчерпаемое богатство своей родины, в силы своего народа, во всемогущество самодержавной власти, ибо, как говорит он: «нашъ Великiй Императоръ самъ собою владѣетъ, и въ своемъ государствѣ аще и копѣйку повелитъ за гривну имать, то такъ и можетъ правитися», — Посошков есть тип столько же современный, сколько и старый: многих таких Посошковых, с окладистыми седыми бородами, услышите вы до сих пор — и услышите тот же язык, те же рассуждения логически-здоровенные, крепкие, вылившиеся прямо из жизни и столь же исключительные. С таким же негодованием скажут они, как и Посошков, про иноземцев: «Cie странное дѣло, что къ намъ прiѣхавъ съ своими бездѣлками, да нашимъ матерiальнымъ товарамъ цѣну уставляютъ низкую, а своимъ товарамъ цѣну ставятъ двойную, а инымъ и выше двойныя цѣны» (с. 122). Или: «Мнѣ cie весьма дивно: земля наша Россiйская, чаю, что будетъ пространствомъ не меньше Нѣмецкихъ, и мѣста всякiя въ ней есть, теплыя, и холодныя, и гористыя, и моря разныя; морскаго берега колико подъ нами и смѣтить не возможно: отъ Кольскаго острова [13], если берегомъ ѣхатъ, то и годомъ всего его не изъѣхать — а никакiя вещи у насъ потребныя не сыскалося» (с. 152). Когда читаешь эти слова, припоминаешь невольно многие другие, слышанные от живых людей: тот же толк, тот же тон, тот же жар убеждения, не вырывающийся порывами, но ровный и постоянный. Все понятно, все возвышенно в этой могучей, спокойно уверенно сознающей себя народности, все — от убеждения в истинности и законности единой православной веры, ею исповедуемой, убеждения — перед лицом которого почти наравне стоят кирки и мечети, убеждения, весьма характеристически выражающегося в следующих словах в посольстве Лихачева во Флорен-
цию: «Въ Ливорнѣ церковь Греческая во имя Николая Чудотворца: а Протопопъ Аѳонасiй; да въ Венецiи церковь же Греческая, а больше того отъ Рима и до Кольскаго острога нигдѣ нѣтъ благочестiя» — убеждения, которое, мимоходом говоря, как непосредственное и крепко историческое, не имеет ничего общего с безобразною нетерпимостью «Маяка» и псевдославянской школы Шишкова, — от другого столь же незыблемого убеждения в том, что «Бѣлый царь над всѣми царями царь», по словам Голубиной книги, придающего даже флоренскому князю Фердинандусу в оффициальном акте посольства речь, соответствующую понятиям посланников о величии своего государя, которого «государскимъ счастьемъ» они здоровы и сохранены от всякой напасти * [14], убеждения, засвидетельствованного великими событиями 1612 года и перешедшего всею силою своею в грамоту об избрании Михаила Романова — до уверенности Посошкова, что мы, благодатиею Божиею, «остротою» не хуже немцев, и «они ругаютъ насъ напрасно», — что им, иноземцам, а не нам перед ними «подобаетъ рабствовати», даже до исключительности, устами Посошкова требующей прекращенья ввоза товаров, которые «купя выпить, да выблевать, или принявъ разбить и бросить» [15]. — «Ихъ Немецкихъ разсказовъ, — говорит Посошков, — намъ не переслушать: они какую безделицу не привезутъ, то надсѣдаясь, хвалятъ, чтобы мы больше у нихъ купили» (с. 125, 124), — даже до той оригинальной политико-экономической близорукости, которая из страха за свое родное, самобытное, кровное думает остановить неудержимое, готова вооружаться, например, даже на заведение почт **. Все понятно в этой могучей, полной
* И Царскаго Величества здоровье сказано было отъ Посланниковъ Флоренскому Князю Фердинанду въ городѣ Пизѣ. И Князь у Посланниковъ принялъ Государеву грамоту и поцеловал ее, и почалъ плакати, а самъ говорилъ черезъ толмача по Италiйски: за что меня холопа своего вашъ пресловутый во всѣх Государствахъ и Ордахъ Великiй Князь Алексѣй Михайловичъ, всея Великiя и Малыя и Бѣлыя Россiи Самодержецъ, изъ дального великаго и преславнаго града Москвы поискалъ, и любительную свою грамоту и поминки прислалъ? А онъ Великiй Государь, что небо отъ земли отстоитъ, то онъ Великiй Государь: славѣн и преславѣн отъ конецъ до конецъ всея селенныя; и имя его преславно и страшно во всѣх Государствахъ, отъ ветхаго Рима и до новаго и до Iерусалима: и что мнѣ бѣдному воздать за его Великаго Государя велiю и премногую милость? А я, и братья мои Матiасъ и Леопольдъ и Янъ Гратiянъ, и сынъ мой Косма, его Великаго Государя раби и холопи: а его Царево сердце въ руцѣ Божiей; — ужто такъ Богъ изволилъ. А какъ князь съ Посланнымъ витался и говорилъ рѣчь, тогда стояли по обѣ стороны многiе Думные честные люди и служилые съ нагимъ оружиемъ… Князь Фердинандъ билъ челомъ, Царскаго Величества Посланникамъ, во Флоренскъ ѣхать прежде себя, для того, что де для васъ будетъ стрѣльба многая, а стороннiе подумаютъ, что для меня де трѣльба, а не для васъ будетъ»
** Да пожаловали они прорубили изъ нашего государства во всѣ свои земли диру, что вся наша государственная и промышленная дѣла ясно зрятъ. Диражъ есть сiя: здѣлали почту, а что въ ней Великому Государю прибыли, про то Богъ вѣсть, а колько гибели отъ той почты во все Царство чинитца, того и исчислить невозможно. Что въ нашемъ государствѣ не здѣлается, то во всѣ земли рознесетца; однѣ иноземцы отъ нее богатятся, а Русскiе люди нищаютъ» (с. 273).
свежих сил и сознающей силы своей народности, которой так явно указуется Провидением великая судьба начать истинно новую историю, дополнить в сумме приобретений человечества огромные пробелы, оставленные древнею и средневековою.
Веками сложилась эта народность, и в завещанных веками формулах перешло крепко сложившееся понятие к Посошкову. Стоя на самой вершине, которой достигло развитие этого понятия, утверждаясь на крепких основах быта, Посошков, кроме того, смотрит сверху на самую вершину. И много причин было тому, что он смотрит сверху. Дотоле, т. е. до времен Петра и Посошкова, сверху, в продолжении семивекового развития, смотрела и могла смотреть на быт только церковь православная в лице своих великих представителей: только их требования стоят выше уровня действительности, но замечательно в высшей степени, что эти требования прививаются незаметно, постепенно, и никогда не вторгаются насильственно, хотя подобное отношение сверху явно с самого почти первого появления церкви на русской земле ясно видится в посланиях митрополита Никифора к Владимиру Мономаху, этому идеальному типу князя-нарядника и охранника общинного быта, которому, во имя своего взгляда сверху, церковь, в лице своего красноречивого и глубокомысленного представителя, придает византийское значение; — и поразительно огромная разница между понятиями Мономаха о самом себе, высказанными им в его завещании, представляющем задушевную исповедь охранника и нарядника, который утер много пота за русскую землю, исповедь служебной деятельности, исчислениe трудов, поднятых на пользу земли, где князья и их варяги, вероятно, еще долго были призванные — «находницы», по выражение летописи — и между теми понятиями, которые развивает в одном из двух посланий своих к нему глубокомысленный византийско-русский духовный мыслитель [16]. Взгляд сверху очевидно, освязательно борется со взглядом непосредственным в летописцах: едва выразится он, например, увещательно и поучительно в прискорбном сетовании по поводу смерти «перваго самовластца въ русской землѣ» Андрея Георгиевича Боголюбского, как на следующей же странице изменит себе летописец своим неуходившимся еще и под монашескою рясою общинным и даже местным характером в рассказе о «мизинныхъ людяхъ володимерцахъ», которые одною правдою своею перемогли старые города, Ростов и Суздаль, города, где «изначала и былъ такой же порядокъ, какъ у Новгородцевъ и Смольнянъ и Кiянъ и всехъ властѣй». Взгляд сверху, взгляд церковно-государственный долго идет извне, и болезненный процесс эпохи междуцарствия есть не что иное, как переход его во внутрь, в плоть и кровь сложившегося государственного организма: государственный организм замкнулся, дал отпор всему чуждому, постороннему и замкнул в себе тот самый взгляд, с которым боролись несколько веков народные местности, общины, междукняжеские и общинные безнарядицы. Этот-то взгляд перешел цельно,
со всем своим развитием, в Посошкова — он-то и есть идеальная основа его мышления. «Паче-же вещественнаго богатства, — говорит автор книги «О скудости и богатстве» в самом начале своего сочинения, — надлежитъ всѣм намъ обще пещися о невещественномъ богатствѣ, то есть о истинной правдѣ; правдѣ отецъ — Богъ, и правда вельми богатство и славу умножаетъ и отъ смерти избавляетъ; а неправдѣ отецъ дiаволъ, и неправда не токмо вновь богатитъ, но и древнее богатство оттончеваетъ, и въ нищету приводитъ, и смерть наводитъ».
«Самъ бо Господь Богъ рекъ: Ищите прежде царства Божiя и правды Его, и прирече глаголя: яко вся приложатся вамъ, то есть богатство и слава [17]. И по такому словеси Господню подобаетъ намъ паче всего пещись о снисканiи правды; а егда правда въ насъ утвердится и твердо вкоренится, то не можно царству нашему Россiйскому не богатитися и славою не возвыситися. То бо есть самое царства украшенiе и прославленiе и честное богатство, аще правда, яко въ великихъ лицахъ, тако и въ мизирныхъ, она насадится и твердо вкоренится, и вси, яко богати, тако и убозiи, между собою любовiю имутъ жить, то всякихъ чиновъ люди по своему бытiю въ богатствѣ довольни будутъ. Понеже правда никого обидить не пускаетъ, а любовь принудитъ другъ другу въ нуждахъ помогати; и тако вси обогатятся, а царскiя сокровища со излишествомъ наполнятся; и аще и поборъ какой прибавочной случится, то, не морщася, платить будутъ. И аще Великой нашъ Монархъ Петръ Алексѣевичъ, но данной ему отъ Бога благодати и по самодержавной своей власти, вся нижеписанная моего мнѣнiя предложенiя въ бытie произвести повелитъ, то, я чаю, и безъ прпбавочныхъ поборовъ преизлище царская сокровища наполнятся» (с. 2, 3).
Странная политическая экономiя — ибо книга «О скудости и богатстве» по названию своему, естественно, должна иметь политико-экономическое содержание — которая хочет обогощать людей и государства посредством правды и любви! Странный взгляд — и мудрено ли, что этот странный взгляд, который доселе делит с Посошковым вся непосредственно мыслящая великая Русь, который вместе с ним наследовала она от всего своего прошедшего, убеждение в законности которого испила она в чаше спасения, предлагаемой церковью всем верующим и дерзающим, а способность к восприятию всосалась молоком матери, — мудрено ли, что этот странный взгляд не мирится, хотя доселе еще смутно, бессознательно и отчасти робко — с требованиями другого, на другой почве выработавшегося взгляда, в котором эгоизм является принципом и двигателем машины общественного благосостояния, в котором правда и любовь — суть нечто личное, вырабатываемое личным процессом, одним словом, сами по себе, а государство, общество тоже само по себе; в котором общественная жизнь есть таким образом чистый формализм, — в котором узаконена, возведена в науку двойственность внутреннего миpa человека и общественного быта. Странный взгляд! и как ему в самом деле выстоять против взгляда форма-
листов — «хоть мы, благодатiю Божiею, остротою не хуже ихъ, и они ругаютъ насъ напрасно» [18]… Но еще страннее то, что формализм сам себя подорвал, сам собою недоволен, сам в наше время ищет и и не находит точки соприкосновения внутреннего со внешним.
Выставим несколько наиболее ярких странностей этого взгляда, поскольку являются они в книге Посошкова.
К числу их принадлежит постоянное требование, чтобы дело было настоящим делом, а не формою. Это, тоже странное требование, так сильно, что оно во всякие времена смеется над формою без содержания, где ее ни подметитъ, хотя бы даже у своих образованных учителей. «Я сего не могу знать, — говорит, например, крестьянин Посошков на основании одной приглядки к ратному делу, — что то за повычай древнiй солдатской, что только одно ладятъ, чтобы всѣмъ вдругъ выстрѣлить, будто изъ одной пищали: и такая стрѣльба угодна при потѣхѣ или пpи банкетѣ веселостномъ, а при банкетѣ кровавомъ тотъ артикулъ не годится: тамъ не игрушку надобно дѣлать, а самое дѣло, чтобы даромъ пороха не жечь и свинцу на вѣтеръ не метать, но весь тотъ припасъ шелъ бы въ дѣло, по что сошлися. Я много слыхалъ отъ иноземцевъ военныхъ похвалы такой, такъ де жестоко билися, что во огнѣ де стояли часовъ съ шесть, и никто де никого съ мѣста сбить не могли. И сiя похвала нѣмецкая — у нихъ бы она и была; а намъ дай Боже ту похвалу нажить: съ Русскими де людьми биться нельзя; ежели де единожды выпалятъ, то де большую половину повалятъ. И такая битва не въ шесть часовъ, но въ одну минуту» (с. 37, 38).
Но нигде это требование настоящего дела в деле не проявляется с такою силою, как в отношении к суду. Другой, не странный взгляд выработал под влиянием Римского права весьма тонкую философско-юридическую теорию о различии мaтepиaльнoй и формальной истины, разделил или, лучше сказать, разрубил все юридические отношения на две сферы : сферу отношений уголовных, в рассмотрении которых он, по возможности, доискивается материальной истины, и сферу отношений гражданских, в которых он совершенно довольствуется формальною, считая разыскание истины материальной нарушением прав частного произвола, составляющего душу, жизнь гражданскаго права, узаконивая таким образом недоверие частного произвола к обществу, с одной стороны, и, с другой, давая место обществу только как пугалу в отношении к частному лицу. Бесконечное множество процессов, бесконечная их продолжительность, наибольшее отдаление момента процесса, известного в науке Римского права под названием litis contestatio; развитие тонкого искусства говорить ad libitum за и против, развитие вполне узаконенное, все это — явления, желаемые в теории не странного взгляда, такие явления, в которых, говоря терминами теории, «отсвечивается идея личного, гражданского произвола», явления, показывающие высшую степень развития гражданских отношений, факты, из узаконения которых и выте-
кает требование так называемой формальной истины. Оно может быть и так: так по крайней мере оно там было — не могла же теория возникнуть вне практики — но не мирятся с этою тeopиею требования странного взгляда [19]. Во-первых, на всякий суд, уголовный или гражданский, смотрит он, как на дело царское и Божье, «понеже судья судитъ именемъ царскимъ, а судъ именуется Божiй; того ради всячески судьѣ подобаетъ ни о чемъ тако не старатися, яко о правдѣ, дабы ни Бога, ни Царя не прогнѣвати. Буде судья судъ творитъ неправый, то у Царя приметъ временную казнь, а отъ Бога вѣчную… понесетъ [20]. А буде судья повѣдаетъ судъ самый правдивый и нелицеприятный по самой истинѣ яко на богатаго, тако на самаго убогаго и безславнаго, то отъ Царя будетъ ему честь и слава, а отъ Бога милость и царство небесное» (с. 45). В непосредственной чистоте своей, требуя от правды правды, этот взгляд видит, однако, всю трудность приложения к жизни своих требований: «Мой умъ, — говорит Посошков, — не постигаетъ сего, како бы прямое правосудiе устроити»; ибо, в самом деле, требования эти не так легко осуществимы, как желаемые явления другого взгляда, ибо сей последний только раболепно узаконивает факты действительности: желаниe правды, если оно останется отвлеченным, не будет умерено любовью, то тотчас же выскажет всю свою жгучую, отрицательную натуру в тех или других жестких мерах отрицания неправды: так оно высказывается и в правдивой натуре Посошкова, и в голосе многих старых людей, которые, как отец Петра Ильича в новой драме Островского прямо порешают обо всех, идущих не по пути ими сознаваемой правды: «Таковымъ одна часть съ бѣсами!» [21] или как Посошков о некоторых преступниках, что «таковому не надлежитъ живу быти ни сутокъ, но, изъ застѣнка вышедъ, вершить его»…
Но есть в жизни самой, в жизни народа, в его коренных верованиях крепко заложенное иное, высшее понятие, то понятие, которое, самого ли Посошкова, другого ли, читавшего его книгу, заставило поправить порыв ревностного правдолюбца словами: «Осмотрись, старичокъ, и эту рѣчь вельми! [22] Нѣсть грѣхъ, побѣждающъ Божiе человѣколюбiе!» — жизненное пoнятиe старика Агафона в «Не такъ живи, какъ хочется», простирающее на все, даже на тварей любовь и сострадание, понятие, которое также может доходить до своего рода крайности, но которое глубоко укоренено в народе. Народ — менее всех других юридический, что и сознают смутно попрекающие его в прошедшем и в настоящем отсутствием юридического быта, не подозревая только, что этим произ-носят ему величайшую похвалу. Глубокомысленнейший из писателей нашего времени и самый пламенный из правдолюбцев, Гоголь додумался до этого коренного свойства, разъяснил себе мыслею то, что Пушкин непосредственно, как сам народ, отметил в своей «Капитанской дочке», и смело высказал в своей «Переписке» в письме о «Сельском суде и расправе», которое, как и вся книга, подверглось
тогда глумлению и упрекам[23]. «Судите, — говорит он в этом письме, — всякаго человѣка двойнымъ судомъ и всякому дѣлу давайте двойную расправу. Одинъ судъ долженъ быть человѣческiй: на немъ оправдайте праваго и осудите виноватаго. Другой же судъ сдѣлайте Божескiй: и на немъ осудите и праваго, и виноватаго. Выведите ясно первому, какъ онъ самъ былъ тому виною, что другой его обидѣлъ, а второму — какъ онъ вдвойнѣ виноватъ и предъ Богомъ, и предъ людьми. Одного укорите, зачѣмъ не простилъ своему брату, какъ повелѣлъ Христосъ, а другаго попрекните, зачѣмъ онъ обидѣлъ самого Христа въ своемъ братѣ. А обоимъ вмѣстѣ дайте выговоръ за то, что не примирились сами собою и пришли на судъ, и возьмите слово съ обоихъ исповѣдаться непремѣнно попу на исповѣди во всемъ… Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямыхъ и правыхъ познаний… Правосудiе у насъ могло бы исполняться лучше, нежели во всѣхъ другихъ государствахъ, потому что изъ всѣхъ народовъ только въ одномъ Русскомъ заронилась эта вѣрная мысль, что нѣт человѣка праваго, и что правъ одинъ только Богъ. Эта мысль, какъ непреложное вѣрованiе, разнеслась повсюду въ нашемъ народѣ. Вооруженный ею, даже простой и неумный человѣкъ получаетъ въ народѣ власть и прекращаетъ ссоры. Мы только, люди выcшie, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ, рыцарски-европейскихъ понятий о правдѣ [24]. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое изъ дѣлъ нашихъ, придешь къ тому же знаменателю, то-есть — оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила Комендантша въ повѣсти Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика разсудить городоваго солдата съ бабою, подравшихся въ банѣ за деревянную шайку, снабдила его такою инструкцiею: «Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи». («Переп. съ друзьями», с. 187, 188)…
Но то, до чего Гоголь додумался и додумался болезненным процессом, что, вследствие этого, и выразил он в формулах несколько резких, то весьма просто выражается в непосредственном народном взгляде, слившемся с той незыблемой основой, которая утвердилась крепко на почве, так чудно приготовленной к ее воспринятию: та же мысль, но [25] не в виде чего-либо умом постигнутого, не в виде чаяния, в каком являются большею частиею у Гоголя все коренные великорусские созерцания, — видна у Посошкова — у народа, везде, где Посошков — народ, где жесткая правда не увлекает его к жестким отрицательным мерам. «И егда кто богатый или самый убогiй челобитную о обидѣ своей или и въ каковомъ ни есть случаѣ подастъ, то, по моему мнѣнiю простотному, надлежитъ ее судьѣ принять, и замѣтить число подачи, а къ запискѣ ее въ протоколъ не отдавать, и самому судьѣ вычести ее со вниманiемъ и чтобъ чтенное памятовать. И высмотря челобитную втонкость, взять того челобитчика въ особое мѣсто и спросить его сице: „Друже! подалъ ты челобитную о обидѣ своей, праволь ты на нею бьешь челомъ? И аще онъ речетъ самою правдою, то надлежитъ ему молвить: „Господа ради самъ ея осмотри ты,
чтобы тебѣ не впасти въ напасть и въ великой убытокъ, паче же убытку въ грѣхъ не впади; чтобы тебѣ во второе Христово пришествie праведнымъ Его судомъ осуждену не быть», и сказать: „Мы судимъ овогда право, овогда же и неправо; понеже мы не сердцевѣдцы, а тамо не нашъ гнилой судъ будетъ, но самый чистый и здравый, и всякая ложь и правда будетъ явна, и не токмо болышiя дѣла, но и самая малая крупина будетъ обнажена, понеже самъ сердцевѣдецъ Богъ имать судити… И аще ты сего человѣка изубытчишь напрасно, и на нашемъ судѣ аще и правъ будешь, а тамо оправданiе наше будетъ тебѣ въ большее осужденiе, буде напрасно его изубытчишь, а и насъ на грѣхъ приведешь. И аще ты самъ предъ нимъ чѣмъ виненъ, а надѣясь на свою мочь, потолочишь его, то уже самое горшее осужденiе прiмеши. И аще тогда и каятися будешь, да ничего себѣ не поможеши; и того ради нынѣ осмотрись, дабы тебе въ вѣчную погибель не вринутися. Кто предъ Богомъ не грѣшенъ, и кто передъ Царемъ не виненъ! Такожде и между собою како бы въ чемъ не поссоритися, Господа ради не входи въ большую ссору, не приложи болѣзни къ болѣзни, и суперника своего не вводи въ большой убытокъ. Если ты и правъ будешь, то не безъ убытку тебе будетъ; а если же да неправъ будешь, то его изубытчишь, а себя и наипаче въ великую напасть ввалишь: понеже всѣ убытки его, что онъ ни скажетъ, безсрочно доправлено на тебѣ будетъ, да въ казну заплатишь пошлины, а приказнымъ людемъ дашь заработныя деньги. Пойди себѣ съ добрыми людьми подумай, и какъ ни-есть, хотя на себя поступя, а лучше помирись». (Соч. Пос., с. 51, 52).
Странный опять-таки суд, — скажешь поневоле, имея в виду другой, не странный взгляд, который строго разграничивает уголовный процесс от гражданского и всякое вмешательство общественного элемента в последний называет нарушением прав частного произвола, который радуется бесконечному развитию гражданских отношений, ибо чем разнообразнее их путаница, тем богаче и полнее наука гражданского права, тем утонченнее развивается юридическая диалектика, тем могущественнее по влиянию адвокатура [26]. Взгляд же Посошкова, взгляд народа, весьма грубо относится и к разнообразию гражданских отношений, выражаясь несколько насмешливо: «Я не знаю, что въ семъ за краса, еже такъ въ канцелярiю челобитчиковъ натѣснится, что до судьи и дойти не мочи» (с. 65), а о тонкой диалектике гражданских споров замечает: «Аще кто умно будетъ разговаривать, то на тонкостныхъ словахъ можно познать, правду-ль сперва сказалъ или не правду; и буде признается въ немъ вина, то надлежитъ его и наипаче принудить съ великимъ притужанiемъ, чтобъ онъ помиловалъ себя и помирился» (с. 53). Этот взгляд сознается прямо, что «умомъ не постигаетъ, како бы прямое правосудiе устроити», — чувствуя только законность своих требований, он робок в приложениях. «Токмо не безъ страха есмь о семъ, — говорит этот взгляд в лице своего представителя, — еже азъ весьма мизиренъ и ученiю школьному неискусенъ, и како по надлежащему достоитъ
писать, ни слѣда нѣсть во мнѣ, ибо самый простецъ есмь» (с. 46). Онъ является еще, так сказать, как мать родила, в первобытной наготе, не вооруженный наукою, но и без науки он уже сильнее другого взгляда тем, что в сущности его не лежит той страшной двойственности, которая в наше время подорвала все основы последнего, как ни укрепляла их наука — ибо наука исходит из жизни, а не создает же жизнь, не сообщает прочности тому, что гнило в самом основании [27].
В самом Посошкове, одном из замечательнейших представителей этого взгляда дорога именно непосредственность и притом опирающаяся на незыблемые основы учения церкви, дороги те места, когда, по его словам, он, «возложився на Его Божiю волю», дерзает мнение свое «изъявити простотнымъ письмомъ». Взгляды его сверху выше этого непосредственного только тогда, когда высота их есть высота церковного учения; во всех других случаях реформаторские его проекты или не выше требований его эпохи в Европе, требований, которые были весьма не высоки: так, уголовные его теории не простираются далее несчастной теории устрашения, умеряемой только гораздо высшею их непосредственностью; или односторонни — как все чисто личные стремления к правде, и ведут к какому-то государственному и моральному китаизму, — или поистине [28] превосходны и неоцененны только тогда, когда возникли из непосредственных, действительных опытов, — когда, одним словом, суть взгляды снизу, а не сверху.
Нигде эта реформа снизу, на основании насущных требований действительности, требований, подкрепленных всем прошедшим, не является у Посошкова с такой блистательной стороны, в сравнении со всеми взглядами сверху и в сравнении с тем, что мы называем не странным взглядом, как в рассуждении о составлении законодательства — или, что, может быть, понятнее будет для последователей не странного взгляда, в вопросе о кодификации. Стоит только припомнить, какую вопиющую потребность представляют кодификации для Европы с начала XVIII столетия, чтобы оценить надлежащим образом ту праздную юридическую софистику, какую знаменитый Савиньи противопоставлял поборникам кодификаций [29]. Хоть и неловко несколько касаться вопроса, по-видимому, чисто юридического в литературной статье, но в этой статье мы имеем дело по преимуществу с народною сущностью и уловляем черты ее, где ни попало, в той надежде, что запас немногих наших наблюдений и размышлений наведет других на наблюдения более меткие и размышления более систематические. Законодательство Европы представляло, а кое-где, как в Англии, до сих пор представляет хлам развалин прошедшего, поросших мохом, с новыми постройками и пристройками, смесь отживших средневековых форм исторических с формами более или менее личными, смесь не разобранную, хаотическую, приводившую в отчаяние бесконечным разнообразием местностей. Поднялся необходимо вопрос, как поступить с этим хаосом? Уважить ли в нем местное
и историческое и ждать, пока наука, объяснив историческое, дойдет до единого корня многоразличных наростов — сущность рассуждений исторической школы; но ведь жизнь-то не ждет, а жизни нужны закон и знание закона, как хлеб насущный? Или поступить с Гордиевским узлом по-александровски, пожалуй, по-наполеоновски — оставить развалины и построить новое здание? [30] Вопрос жизненный и представляющий одну из сторон великого вопроса, который разрешал XVIII век на Западе… Но если жизнь не ждет, и если практическое решение не могло быть иное, как построить новое здание, то, во-первых, на каких же основах его построить? Принять ли за gemeines Recht Римское право? Но в руках цивилистов оно сделалось только юридической логикой, юридической диалектикой, оторвалось от всякой почвы. Или личные тeopии некоторых мыслителей, или одну личную волю законодателя? А, во-вторых, разве пренебреженные местности, разве исторические отработки не оживут, не отрыгнутся в час своего разрушения?.. Хоть они и поросли мохом, но в них таится жизнь посильнее жизни личной мысли или диaлeктичecкoй жизни, и целый ряд тех или других реакций неминуемо должен воспоследовать, и отрыжки болезненного организма приведут его еще в более неправильное состояние… А между тем, неведение закона есть самое важное из зол государственных — и сердцем будешь всегда скорее на стороне мыслителей, которые, как Тибо [31], придумывают те или другие меры, реформы, чем на стороне софистов, которые диалектически забавляются страшною путаницею и советуют ждать всего от науки, а с другой стороны, в сердце же найдут себе защиту и сожаление пренебреженные местности и поросшие мхом прошедшего исторические отработки! Странное и безвыходно трагическое положение [32].
Но там, где жизнь не раздвоилась, где прошедшее живет в настоящем, где постоянно проходят одни и те же начала, — там, где в правдах, уставах, грамотах, судебниках вырастала одна и та же мысль, воплотясь, наконец, в истинно-земское уложение, там, где дело о разъяснении закона порешилось простейшим образом — составлением свода, в который вошло все прошедшее, уцелевшее в настоящем — там, естественно, рассуждается не о том, какой закон поставить, а как усудить — и порешается вопрос весьма простым требованием одной ясности: «А надобня такъ его усудить, — говорит Посошков, — чтобъ и не весьма смышленный судья могъ право судить». Самый закон все знают, как бы он разнообразен ни был, в том смысле, как знает всякий русский человек всякую пословицу, какова бы она ни была, т. е., слыша ее, припоминает, узнает за родную, за знакомую, ибо все наши юридические положения выросли, за исключением тех, которые привились и большею частью не устояли, из обычаев, доселе уцелевших — но этот всем известный закон «надобно усудить» до той степени ясности, «чтобы и не весьма смышленный судья могъ право судить».
Ясно, что так «усудить» может не личная теopия, а сам народ [33]: ясно поэтому и все рассуждение Посошкова, в котором он простотою взгляда, совершенно народного, стоит несравненно выше всей своей эпохи. На странице, предшествующей этому рассуждению, он, тоже по простоте, заплатил дань духу своей эпохи; во имя взгляда сверху он только что советовал выбирать статьи из немецких и даже турецких судебников. И за сим, не подозревая, вероятно, внутреннего противоречия в самом себе, он продолжает: «И к сочиненiю тоя судебныя книги избрать человѣка два или три изъ духовнаго чина самыхъ разумныхъ и ученыхъ людей, и въ Божественномъ писанiи искусныхъ, и отъ гражданства, кiи въ судебныхъ и во иныхъ правительныхъ дѣлахъ искусны, и высокаго чина, кои негорды и ко всякимъ дѣлахъ нисходительны, и отъ иныхъ чиновъ, кои невысокоумны, и отъ приказныхъ людей, кои въ дѣлахъ разумны, и отъ дворянства, кiи разумны и правдолюбны, и отъ купечества, кiи во всякихъ дѣлахъ перебыли бъ, кiи и отъ солдатъ смышлены, и въ службахъ и въ нуждахъ натерлися и правдолюбивые, изъ людей боярскихъ, кiи за дѣлы ходятъ, и изъ фискаловъ. А мнится мнѣ: не худо бы выбрать изъ крестьянъ, кои въ старостахъ и въ сотскихъ бывали, и во всякихъ нуждахъ перебывали бъ, и въ разумѣ смысленные. Я видалъ, что и въ Мордвѣ разумные люди есть, то како во крестьянехъ не быть людемъ разумнымъ?».
«И написавъ тыи новосочиненные пункты всѣмъ народомъ освидѣтельствовать самымъ вольнымъ голосомъ, а не подъ принужденiемъ, дабы въ томъ изложенiи, какъ высокороднымъ, такъ и низкороднымъ, и какъ богатымъ, такъ и убогимъ, и какъ высокочинцамъ, такъ и низкочинцамъ, и самымъ земледѣльцамъ, обиды бы и утѣсненiя отъ недознанiя коегождо ихъ бытiя въ томъ новоисправленномъ изложенiи не было».
«И написавъ совершеннымъ общесовѣтиемъ, предложить Его Императорскому Величеству, да разсмотритъ его умная острота. И кiи статьи Его Величеству угодны, то тѣ тако да и будутъ; а кiи непотребны, тыи да извергнутся, или исправить по пристоинству надлежащему. И cie мое реченiе многiе вознепщуютъ яко бы азъ Его Императорского Величества самодержавную власть народосовѣтiемъ снижаю, азъ не снижаю Его Величества самодержавiя, но ради самыя истинныя правды, дабы всякой человѣкъ осмотрѣлъ въ своей бытности, нѣтъ ли кому въ тыихъ новоизложенныхъ статъяхъ каковыя непотребныя противности, иже правости противна. И аще кто узритъ какую неправостную статью, то бы безъ всякаго сомнѣнiя написалъ, что въ ней неправость, и ничего не опасаяся, подалъ бы ко исправленiю тоя книги; понеже всякъ рану свою въ себѣ лучше чуетъ, нежели въ иномъ комъ. И того ради надобно всякимъ людямъ (въ ?) [34] свои бытности выстеречи дондеже книга не совершится; а егда она совершится, то уже никто не можетъ помочи; того бо ради и дана свободность, дабы послѣди не жаловались на сочинителей тоя новосочиненныя книги. Того-то ради надлежитъ ю вольнымъ голосомъ и освидѣтельствовать, дабы всякая статья
ни отъ кого порочена не была, но всякъ бы себя выстерегъ, и чтобы впредь никому спорить было не мочно, но въ вѣки вѣковъ было бы ненарушимо оно».
«Правосудное установленiе самое есть дѣло высокое, и надлежитъ его такъ разсмотрительно состроити, чтобы оно ни отъ какого чина незыблемо было. И того ради безъ многосовѣтiя и безъ вольного голоса [35] никоими дѣлы невозможно; понеже Богъ никому во всякомъ дѣлъ одному совершеннаго разумiя не далъ, но раздѣлилъ въ малыя дробинки, кому-ждо по силѣ его: овомужъ менѣе. Обаче нѣсть такого человѣки, ему же бы не далъ Богъ ничего; и что далъ Богъ знать малосмысленному, того не далъ знать многосмысленному; и того ради и самому премудрому человѣку не надлежитъ гордиться и умомъ своимъ возноситься; и малосмысленныхъ ничтожить не надлежитъ, коихъ въ совѣтъ призывать надобно; понеже малосмысленными человѣки многащи Богъ вѣщаетъ, и того ради наипаче ничтожить ихъ душевредно есть; и того ради во установленiи право судiя вельми пристойно изслѣдовать многонароднымъ совѣтомъ». (Соч. Пос., с. 76, 77, 78) [36].
А. Григорьев.
(продолжение в следующей книжке, а до окончания еще весьма далеко).
ПРИМЕЧАНИЯ.
[1] С. 175. Пред оглавлением статьи написано карандашом, по утверждению Н. Барсукова, рукой Дубельта: «Сочинитель сказал неправду, — это не разбор комедии Островского, а это комедия г. Григорьева».
Первая статья «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», напечатанная в свое время в «Москвитянине» (1855, т. 1, № 3, стр. 97–118), вошла в Соч. Ап. Григорьева под ред. Н. Н. Страхова (СПБ. 1876. Т. I), в Собрание соч. Ап. Григорьева под ред. В. Ф. Саводника (М. 1915. Вып. XI) и в Полное собрание соч. и писем Ап. Григорьева под ред. Василия Спиридонова. Изд. П. П. Иванова. Петроград. 1918. Т. I.
[2] С. 175. Строки в цитате из Посошкова от слов «и от нерассмотрительного правления и разбоев» и до конца, подчеркнуты московским цензором простым карандашом и заключены в скобки, а на полях против этих строк им сделана карандашом же пометка: «Все это относится до того времени, в которое это написано, а именно, до Петровского времени». Цифры 85 и 86, показывающие, на каких страницах в соч. Посошкова помещаются подчеркнутые строки цитаты, зачеркнуты, что доказывает, что цензор, читая статью Григорьева, сверял цитаты из Посошкова с подлинником. На эту цитату, как на «неудобную» по цензурным соображениям, цензор делает указание в разборе статьи Григорьева. См. выше с. 170–171.
Конец цитаты в тексте Посошкова в редакции М. П. Погодина так: «вельми застарела». Ср. Соч. Ивана Посошкова. М. 1842. С. 86. В этой и последующих цитатах из Посошкова много погрешностей против текста последнего в правописании отдельных слов и в пунктуации, изредка встречаются извращения отдельных слов и замена одних слов другими, как вышеприведенная неточность. Мы имеем перед собой статью Григорьева в корректурных листах и только небольшую часть ее — конец, начиная со слов: «Посошкова, в котором он, простотою взгляда»… (с. 190), в рукописи, которую нам удалось найти в Пушкинском Доме, в бумагах Дашкова, и потому относительно большей части статьи мы не знаем, что в ней из указанных погрешностей надо отнести на счет недосмотра Григорьева и что на счет недосмотра типографии или корректора. В силу этого, правописание, пунктуацию и извращения отдельных слов в цитатах из Посошкова мы исправляем, согласно с правописанием текста последнего в редакции Погодина. Замену же одних слов другими мы оставляем в тексте Григорьева без исправления, оговаривая такие случаи в примечаниях.
[3] С. 175. Этот и все дальнейшие курсивы в статье, за исключением одного, принадлежащего Посошкову и оговоренного нами в примечании, принадлежат Григорьеву, а потому в дальнейшем мы не будем оговаривать их.
[4] С. 176. Выражение: «На веру должны принимать то, что говорит», и далее местоимение «который», стоящее после слова «Посошков», московским цензором подчеркнуты карандашом и заключены в скобки, как предназначенные к исключению. Здесь, как и во всех других местах, цензор, подчеркивая и заключая в скобки слова и выражения текста, делал новую правильную расстановку знаков препинания с помощью корректурных знаков. Во всех подобных случаях смысл речи Григорьева совершенно менялся. Выполняя, кроме прямых своих цензорских обязанностей, еще обязанности редактора и корректора, московский цензор, очевидно, допускал возмож
ность, что статья Григорьева, по исключении из нее «опасных» мест, в урезанном и искаженном виде могла быть допущена к напечатанию.
[5] С. 176. Слова: «Мы увидим, как строго и сурово оно, увидим, как»… и ниже выражение, начиная со слов: «Им начинается»… и кончая словами: «именами Кантемира, Фон-Визина, Грибоедова, Гоголя» — московский цензор подчеркнул и заключил в скобки. В своем отзыве на эти слова он обратил особое внимание. См. выше, с. 171.
[6] С. 176. Выражение: «вере по существу своему жгучей, сухой и тревожной — вере, которая способна была бы иссушить сердце, если бы в том же народе не умерялась столь же пламенною верою в столь же высшее положение», на которое московский цензор не обратил внимания, Волков подчеркнул красным карандашом, заключил в скобки и несколько раз перечеркнул сверху вниз. Это выражение — одно из наиболее «опасных» мест в статье Григорьева, намеченных Волковым в своем докладе к исключению. См. выше, с. 173.
[7] С. 176. Слова: «хотя бы и нe без урону, употребляя выражение Посошкова» — московским цензором подчеркнуты и заключены в скобки.
[8] С. 177. Григорьев несомненно сознательно переделал орфографию текста Котошихина на современную. Оставляем ее без исправления. Ср. «О России в царствование Алексея Михайловича». Соч. Григория Котошихина. Изд. Имп. Археологической Комиссии. Изд. 4-е. СПБ, 1906. С. 52–53.
[9] С. 178. В цитате изменено несколько правописание. Исправляем его, согласно с подлинником. Ср. «Древняя Российская Вивлиофика», изданная Николаем Новиковым М. 1788. Ч. IV, с. 466–468.
[10] С. 178. Выражение: «где явно — царь жалует, да псарь не жалует», пропущенное московским цензором, Волков зачеркнул красным карандашом. Это второе «опасное» место в статье Григорьева, отмеченное Волковым в своем отношении, как недопустимое в печати. См. выше с. 173.
[11] С. 179. Здесь становится вполне ясным, что понимал Григорьев под «новым словом» Островского. См. выше с. 157, 164–165.
[12] С. 179. В самом тексте Посошкова Погодин напечатал: «умнѣе» — и сделал сноску: «В моем списке «ушлѣе». Ср. Соч. Ивана Посошкова. М. 1842. С. 273.
[13] Стр. 180. Так в тексте Посошкова, проредактированном Погодиным. Несомненная ошибка. Надо: Кольского острога, как это правильно напечатано в посольстве Лихачева во Флоренцию (см. ниже и прим. 16) и в соч. Аввакума. См. Соч. бывшего Юрьевецкого протопопа Аввакума Петрова. Изд. Братства св. Петра Митрополита. М. 1916. С. 12 и 169.
[14] С. 181. В цитате изменено несколько правописание. Исправляем его, согласно с правописанием подлинника. Ср. «Древняя Российская Вивлиофика». Ч. IV, с. 344 и 345–346. — Взгляд на Лихачева, Потемкина и Чемоданова, выраженный здесь, Григорьев повторил потом в своих статьях: «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» («Русск. Слово» 1859, № 2) и «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина. Вступление. Народность и литература» («Время» 1861, № 2).
[15] С. 181. В тексте Посошкова на месте слова «выблевать» Погодин поставил многоточие, заменив им, по-видимому, какое-то нецензурное слово. И вряд ли это было «выблевать», как предположил Григорьев, заменивший многоточие этим словом. На странице 124 у Посошкова напечатано: «А нам бы то их питье выпить, да… а иное и выблевать. Очевидно, что и в приведенной у Григорьева цитате многоточием заменено было не «выблевать», а какое-то другое слово.
[16] С. 182. Никифор — киевский митрополит, грек по происхождению, приехавший в Россию в 1104 году и умерший в Киеве в 1121 г. До нас дошло несколько произведений Никифора нравоучительного характера, в том числе: «Послание к великому князю Владимиру Мономаху» и «Послание о латинянах» к нему же. Произведения Никифора напечатаны в «Русских Достопамятностях» (ч. I и III), в «Памятниках российской словесности XII в.» и во II т. «Истории русской церкви» Макария.
[17] С. 183. В тексте Посошкова после слова «слава» стоит: (МатѲ. Гл. 6, ст. 33). Григорьев опустил это указание. Московский цензор, обративший на это внимание, после слов «приложатся вам» сделал карандашом сноску: «Здесь должно быть указание Еванг., главы и стиха». Волков, по-видимому, не зная, что указание на Евангелие имеется в тексте Посшкова, под сноской цензора написал красным карандашом: «Это выноска, в которой нельзя прибавлять. Е. В.» Потом это замечание Волкова было кем-то слегка зачеркнуто простым карандашом.
[18] С. 184 Очевидно, Григорьев цитировал Посошкова по памяти и не вполне точно. Вполне правильно приведена Григорьевым эта цитата выше. См. с. 179 и прим. 12.
[19] С. 185. Рассуждение Григорьева об юридических теориях, начиная со слов: «Другой, не странный взгляд выработал под влиянием Римского права»… и кончая словами: «но не мирятся с этою теориею требования странного взгляда» — московский цензор подчеркнул карандашом и заключил в скобки, как одно из наиболее «опасных» рассуждений Григорьева. См. выше, с. 171–172.
[20] С. 185. Григорьев цитирует Посошкова несколько не точно. У последнего это место читается так: «Буде судья суд поведает неправый, то у Царя приимет временную казнь, а отъ Богу (!) вечную, не токмо на теле, но и на душе казнь вечную понесет».
[21] С. 185. Не точно. У Островского читается так: «И таковым одна часть с врагом». Ср. «Не так живи, как хочется». Д. I. Явл. 3.
[22] С. 185. Думаем, что тут недосмотр корректора. Следует читать: «внемли». Следующие слова в цитате взяты из 4-й молитвы Симеона Метафраста, где они читаются так: «Несть грех, побеждающ человеколюбие Твое».
[23] С. 186. К «Переписке с друзьями» Гоголя отнесся с «ожесточенной враждой» Белинский (соч., под ред. С. А. Венгерова, т. X, стр. 435–455. Его же знаменитое письмо к Гоголю), мягче, но также несочувственно встретили ее Н. Ф. Павлов («Соврем.» 1847, т. III, отд. IV, стр. 1–16; т. IV, отд. IV, стр. 88–93), Губер («Спб. Вед.» 1847, № 35), критики «Фин. Вестника» (1847, т. 14, отд. V, стр. 32–37) и «Лит. Газеты» (1847, №№ 4, 5 и 6), и «глумились» над ней органы Булгарина и Сенковского («Сев. Пчела» 1847, №№ 67, 74 и 75. Ст. Я. Я. Я. (Л. В. Бранта). «Библ. для чтения» 1847, т. 80, отд. VI, стр. 42–50). Сам Булгарин приветствовал «Переписку», но это приветствие было гоже своего рода «глумлением» («Сев. Пчела» 1847, № 8). Только Шевырев в «Москвитянине» (1848, ч. 1, № 1) и Григорьев в «Моск. Город. Листке» (1847, №№ 56, 62–64) сочувственно отнеслись в книге Гоголя.
Статья Григорьева о «Переписке» была исключительна по своей смелости, прямоте и искренности и, пожалуй, проницательности. Не опасаясь общего мнения, он смело выступил в ней в защиту книги Гоголя. Он убежденно полагал, что «Переписка» — не скачок в духовном развитии Гоголя, как думал, между прочим, Белинский, а естественное завершение тех болезненных исканий, которые явно уже обнаружились в его предыдущей деятельности. Взгляд совершенно правильный и удивительно проницательный, который нашел подтверждение, много лет спустя, в трудах Пыпина («Характеристика литературных мнений». Гл. VIII). Но только Григорьев ошибочно посмотрел на это естественное завершение исканий не как на крайнее проявление душевной болезни, а как на духовно-нравственный подъем и на расширение умственного кругозора Гоголя, чего якобы не поняла тогдашняя критика. Григорьев долго держался подобного взгляда на «Переписку» и окончательно отказался от него лишь в конце своей жизни, когда он находил уже, что «демон юмора», с одной стороны, и «жажда прекрасного человека», с другой, увлекли Гоголя в «страшную бездну», на дне которой он и создал свое мрачное произведение, и что в этом произведении «выразился не упадок таланта, что было бы хоть как-нибудь да объяснимо, а упадок духа». — Статья Григорьева: «Реализм и идеализм» («Светоч» 1861, № 4, отд. III, с. 10) и «Наши литературные направления с 1848 года» («Время» 1863, № 2, отд. II, с. 3).
[24] С. 186. В цитате выражение Гоголя: «Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых, рыцарски-европейских понятий о правде» — московский цензор подчеркнул и заключил в скобки, как предназначеное к исключению из статьи Григорьева.
[25] С. 186. Место, начиная со слов: «Но то, до чего Гоголь додумался»…. и кончая словами: «та же мысль, но»… как предназначенное к исключению, московский цензор подчеркнул и заключил в скобки. Отрицание «не», следуемое за исключенным местом, он, с помощью корректурного знака, написал с большой буквы, а ниже, между словами «большею частью» и «у Гоголя», с помощью также корректурного знака, вставил слово — «на прим».
[26] С. 187. Рассуждение Григорьева о гражданском и уголовном процессе, начиная с красной строки и кончая словами: «тем могущественнее по влиянию адвокатура» — московский цензор подчеркнул и заключил в скобки.
[27] С. 188. Рассуждение Григорьева со слов: «Он является еще, так сказать» и кончая словами: «что гнило в самом основании» — московский цензор подчеркнул и заключил в скобки.
[28] С. 188. В корректурных листах Григорьева — «истинъ». Предлог «по» вставил московский цензор.
[29] С. 189. Савиньи (Фридрих-Карл, 1779–1861) — знаменитый немецкий юрист, основатель исторической школы в юриспруденции, построенной на незыблемости основ римского права. Савиньи был горячим противником кодификации права, потребность в которой в его время назрела во всей Европе В своих возражениях против кодификации он исходил из чисто теоретических соображений, что кодификация, приспособив право к существующим условиям жизни, тем самым лишит юриспруденцию исторических основ и убьет ее, как науку. А потому заботы государства должны быть направлены не к кодификации, а к созданию благоприятных условий для развития юриспруденции, которая сумеет объединить право в научном синтезе лучше, чем государство. Взгляды Савиньи пользовались огромной популярностью не только в Германии, но и во всей Европе. В числе его горячих последователей и учеников был Н. И. Крылов, наш знаменитый профессор по римскому праву в Московском университете.
Григорьев, несмотря на то, что был юристом по образованию и любимым учеником Крылова, относился с глубоким отвращением и к римскому праву и к юриспруденции вообще, которую он считал «страшною ложью на Духа Святого, то есть клеветою на человъка и человъчность». В октябре 1845 года, т. е. через три приблизительно года после окончания университета, он писал Погодину: «Вы сами хорошо знаете, как пошл, глуп и цинически подл юридический факультет. Когда оставите университет Вы, Давыдов, отчасти Шевырев, тогда, за исключением доброго хотя ограниченного Грановского и свежего еще, благородного, хотя исполненного предразсудков и Византийской религии Соловьева, останется стадо скотов, богохульствующих на науку. Вы помните, какою безотрадною тоской терзался я отъ безплодности их учений, полных цинического рабства, прикрытого хломотьями Западной науки».
Не столь резко, но также отрицательно Григорьев высказался против юриспруденции и особенно римского права в своей рецензии о «Руководстве к познанию законов» Сперанского, напечатанной в «Финском Вестнике» за 1846 г. В этой работе Григорьев говорит, что римское право, воспринятое как завоевание дикими германскими племенами, въелось своей старой мыслью в основы европейского общества и отяготело над ним своими отжившими формами. И в результате этого мы наблюдаем «страшное, непостижимое почти явление, что и до сих пор еще раздаются в Германии, а следовательно у нас также — пошлые возгласы о незыблемости римского права, о приложимости его к жизни, возгласы, возмущающие своим филистерским самодовольством, своим грубым равнодушием к современности и жизни, возгласы — которые… в Германии произвели учение, известное под именем исторической школы, учение,
освятившее страшный грех раздвоения мысли и дела, этот апогеи отвратительной филистерии. Представителем этого учения был знаток римского права Савиньи».
Единственным средством сбросить это иго, давящее Европу, и вывести общество из бесправного состояния Григорьев считал кодификацию, так ненавистную представителям исторической школы. Россия, в этом отношении, подала пример своим грандиозным трудом — Сводом Законов, явившимся «краеугольным камнем народного сознания» и выведшим «русское общество изъ состояния бесправности».
Как видим, Григорьев уже в 1846 году высказывал те взгляды на юридические науки, которые он подробно развивает во второй статье «О комедиях Островского», написанной в 1855 году.
[30] С. 189. Слово «по-Александровски» московский цензор зачеркнул и сделал сноску: «как Александр Македонский».
[31] С. 189. Тибо (Антон-Фридрих-Юстус, 1772–1840) — выдающийся немецкий юрист, представитель историко-философского направления в юриспруденции, противник Савиньи. В противоположность Савиньи, Тибо находил, что в основе гражданско-правового строя Германии лежит не народное убеждение, а случайные условия, и потому считал необходимым созыв лучших представителей Германии для выработки нового уложения, которое отвечало бы требованиям народной совести.
Григорьев вполне разделял взгляды Тибо и его брошюру: «Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland», направленную против Савиньи и его последователей, считал «полною ума и едкой злости» («Фин. Вестник» 1846, т. 9, отд. V, стр. 1–12).
[32] С. 189. Слово «трагическое» московский цензор подчеркнул и сделал к нему сноску: «Грустное, если угодно автору». Волков, с своей стороны, слово «трагическое» в тексте и слово «грустное» в сноске подчеркнул красным карандашом.
[33] С. 190. Выражение со слов: «но этот всем известный закон»… и кончая словами: «а сам народ» московский цензор подчеркнул и заключил в скобки.
[34] С. 190. Предлог «въ» в скобках и с вопросом — в тексте Посошкова.
[35] С. 191. В рукописи Григорьева слова: «и без вольного голоса» опущены. Восстановляем их по тексту Посошкова.
[36] С. 191. Конец статьи, начиная со слов Григорьева: «На странице, предшествующей этому рассуждению»… московский цензор подчеркнул и заключил в скобки. См. выше, с. 190, св. 4-я строка. — Волков не разделил опасений московского цензора относительно цитаты из Посошкова полностью. Он решил вычеркнуть только часть цитаты, а именно — где Посошков дает совет относительно составления нового уложения. Это место (с. 190), начиная со слов: «И сие мое речение многие вознепщуют»… и кончая словами: «же правости противна» — Волков окружил красным карандашом и перечеркнул сверху вниз. Это третье место в статье Григорьева, которое, по мнению Волкова, не могло быть допущено в печати. См. выше с. 173.
Василий Спиридонов