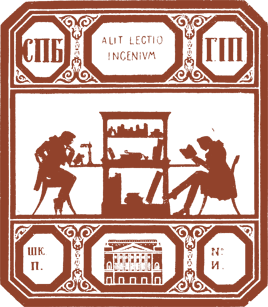А. В. Сухово-Кобылин. 1
Статья С. А. Переселенкова. 2
I.
«Толпу» часто обвиняли в том, что она никогда не умела ценить настоящие таланты. Даже гении — и те в редких случаях заслуживали со стороны ее должное внимание в то время, когда явные бездарности, но близкие ей по духу, почти всегда пользовались успехом и любовью. Такие обвинения имеют за собой известную долю истины. И в окружающей нас обстановке, и в историческом прошлом при желании не трудно отыскать целый ряд подходящих примеров.
Тем удивительнее, что та же «толпа» проявляла временами глубокое понимание в оценке талантов, и именно в такие моменты, когда патентованные ценители и судьи высказывались явно ошибочно или медлили и колебались высказать справедливое мнение.
Так было у нас с комедией «Горе от ума»3, которую впервые оценила «грамотная масса», сразу почувствовав ее художественные достоинства, между тем как критики долгое время «не трогали» ее «с однажды занятого ею места, как будто затрудняясь, куда ее поместить».4
Так было и с лучшим произведением Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». Попав с большими затруднениями на сцену и принятая критикой несколько сдержанно и сухо, эта комедия с первого же представления в Москве (26 ноября 1855 года)5 завоевала себе огромный и прочный успех в публике и признана была одним из выдающихся произведений нашей изящной словесности. В Петербурге, в императорских театрах она в течение 25 лет выдержала сто представлений — более, чем лучшие произведения Островского и немного менее, чем «Горе от ума» (105 представлений).6 Мало того, целый ряд наиболее метких выражений из нее тогда же вошел в разговорный наш язык в качестве «крылатых» слов и поговорок, а имена Кречинского и Расплюева сделались нарицательными именами. Не потеряла «Свадьба Кречинского» интереса и значения и до нашего времени.
Когда речь заходит о «Свадьбе Кречинского» и ее авторе, невольно приходит на память «Горе от ума» и по другому поводу. «В биографии
и литературной деятельности Грибоедова1 много неясных, неразрешенных и даже, кажется, неразрешимых вопросов. Судьба подшутила над исследователями Грибоедова, и на самые основные или элементарные вопросы они вынуждены отзываться незнанием».2
Для биографии и выяснения духовного облика Сухово-Кобылина сделано до сих пор тоже очень мало, за отсутствием необходимых для того материалов. Сам он стоял большую часть всегда вдалеке от литературных кружков, а с пятидесятых годов предпочитал сторониться от людей вообще и любил подолгу проживать за границей. Философские труды его, которым он посвятил наиболее зрелые годы своей жизни, сгорели во время пожара в родовом имении его Кобылинке. Писем его в печати почти не появлялось, из дневника напечатаны только небольшие отрывки.
А между тем, справедливо говорит П. И. Бартенев3, «для истории русской общественности, для всеобщей психологии нужна подробная биография А. В. Сухово-Кобылина. Был он человек необыкновенный, и самый внешний вид его, если судить по портретам, из ряду вон. Подобно многим русским людям, он в произведениях пера своего выразил лишь малейшую часть своих дарований»4. По мнению Л. Я. Гуревич5, с которой на этот раз тоже нельзя не согласиться, «личность Сухово-Кобылина и биография его не только не лишены интереса, но представляют собой как бы художественное произведение, созданное самою жизнью и крайне характерное для той эпохи, которой принадлежит его молодость»6.
Взгляды на литературно-художественную деятельность Сухово-Кобылина, которая ограничилась только лишь созданием трех пьес, очень разноречивы.7
Когда в 1869 году вышла книга «Картины прошедшего»8, заключавшая в себе эти пьесы, современная журналистика отнеслась к ней сурово и небеспристрастно, к чему, впрочем, отчасти повод подал сам автор книги: к двум из напечатанных пьес предпосланы были им предисловие и послесловие, написанные тем своеобразным и характерным для философствующих людей сороковых годов языком, над которым в свое время так ядовито иронизировал Герцен11 и который на последующие поколения произвел впечатление странного жаргона, близко граничащего с безграмотностью. В одном из таких предисловий, между прочим, высказано было относительно литературной критики несколько мыслей настолько бестактных, что отнестись к ним спокойно вряд ли было возможно 9.
К тому же надо прибавить, что книга «Картины прошедшего» была напечатана в типографии Катков и Кº.10
В результате вынесен был о ней чрезвычайно суровый приговор двумя тогдашними передовыми журналами: «Отечественные Записки»12 и «Дело»13.
«В основании всех трех произведений г. Сухово-Кобылина, — писал рецензент первого из них, — лежит анекдот. Никто, конечно, не имеет права сомневаться в достоверности описываемых в них случаев, но, говоря по
правде, читателю и нет надобности сомневаться в этом. Для него не столько важна достоверность описываемого, сколько его вероятие, т. е. не одна фактическая правда, засвидетельствованная сведущими и бывшими при происшествии людьми, а правда общечеловеческая, естественным образом вытекающая из всей постановки происшествия и характеров действующих в нем лиц. Опыты магии, показываемые различными престидигитаторами, несомненны, но для драмы они представляют материал недостаточный. Подобно тому, и из анекдота, если его содержание не введено в рамки общечеловеческого, если оно является только отрывком из жизни человека, не имеющим ни начала, ни конца, можно сделать только анекдот, а никак не драму».1 Успех «Свадьбы Кречинского» рецензент объяснял быстротой действия в этой комедии и оригинальностью типов Расплюева и Щебнева.
Отзыв о книге «Картины прошедшего» в журнале «Дело» был еще суровее. «Печальная участь, — говорилось там, — постигает тех писателей, которые ради шутки желают побаловаться литературой и являются в ней, как дилетанты, с своим первым скороспелым произведением, которое на первый раз имеет некоторый успех в публике. Этот случайный успех писателя ради шутки очень часто ставит его в ложное положение; без таланта и призвания он принимается писать уже не для шутки, а для славы. Не одаренный творческою силой, он начинает подражать самому себе, т. е. своему первому произведению, и из законченной повести или комедии выжимает новый сок, продолжает их без всякой причины и в конце концов доказывает свою полнейшую несостоятельность: шутка оканчивается безобразием или невозможной нелепостью. К разряду таких случайных, непризнанных авторов принадлежит, по нашему мнению, автор книги «Картины прошедшего».2
Менее популярный, чем «Отечественные Записки» и «Дело», журнал «Всемирный труд» отнесся к «Картинкам прошедшего» гораздо мягче, но менее определенно. Зато он обвинял Сухово-Кобылина в слишком пристрастном отношении к чиновничеству и в излишней идеализации уклада помещичьей жизни.3
Резко расходится с только что приведенными отзыв «Вестника Европы». Критик этого журнала относительно литературной деятельности Сухово-Кобылина высказался таким образом: «При благоприятных условиях нашего театра» он «мог бы подарить несколько пьес, которые не отличались бы силою художественного дарования, но были бы очень сценичны, умны и дали бы прекрасный материал для даровитых артистов. Талант не глубокий, но живой и наблюдательный, способный к ловкой компоновке, к умным, хотя и внешним эффектам, автор «Свадьбы Кречинского» мог бы играть далеко не последнюю роль и не на такой бедной драматической сцене, как наша».6
В более позднее время, по поводу литературной деятельности Сухово-Кобылина высказались С. А. Венгеров4, Л. Я. Гуревич5 и А. В. Амфитеа-
тров1. С. А. Венгеров2 причисляет Сухово-Кобылина «к тому немногочисленному разряду писателей, которых можно назвать авторами одного произведения. «Эти писатели сразу развертывают все свое дарование, дают произведение, которое обеспечивает им имя в истории литературы, и потом либо совершенно замолкают, либо пишут вещи, не идущие ни в какое сравнение с первым проявлением их таланта»3.
Л. Я. Гуревич4 не признает у Сухово-Кобылина «значительного и оригинального таланта», а только лишь «талантливость, даровитость, природные данные, из которых, при известных внутренних и внешних препятствиях, так и не вырос настоящий талант». В пьесах Сухово-Кобылина, говорит она, чувствуется «какое-то неуловимое влияние Гоголя5, его юмористический напев, его приемы»6.
По мнению А. В. Амфитеатрова, Сухово-Кобылин обладал огромным талантом. Его комедия «Смерть Тарелкина» резче и язвительнее всего, что до сих пор произвела русская драматургия. Близкий к Гоголю свойством таланта, в задачах творчества этот писатель теснее примыкал к Салтыкову- Щедрину7.
Не претендуя на более или менее полный и законченный очерк жизни и литературной деятельности Сухово-Кобылина, мы попытаемся разобраться как в разнообразных мнениях об его творчестве, так и в немногочисленных данных для выяснения его личности, разбросанных по преимуществу по разным газетам и журналам, и тем облегчить работу будущему исследователю, которому, надо надеяться, придется работать при более благоприятных условиях.
II.
Сохранившиеся до нас сведения о жизни Сухово-Кобылина в детстве, в период юности и в годы среднего возраста чрезвычайно скудны и отрывочны. Отец его, заслуженный генерал Василий Александрович8, принадлежал к старинному дворянскому роду, ведущему свое начало от времени, предшествующего Ивану Грозному9. Род этот находился между прочим в родстве с родом Яковлевых, к которому по отцу принадлежал Герцен10, и с родом Огаревых. Мать — Мария Ивановна была урожденная Шепелева.11 Кроме Александра, Сухово-Кобылины имели еще троих детей: одного сына и двух дочерей, из которых старшая — Елизавета, вышедшая замуж за графа Салиаса13, сделалась впоследствии писательницей, известной под именем Евгении Тур.12
Будущий драматург родился 17 сентября 1817 года в Москве, где постоянно проживали его родители. Были они довольно зажиточны и вели открытый образ жизни. В доме, видимо, первенствовала хозяйка, умная и образованная женщина, но полная дворянской спеси и сословных предрассудков14, что, однако, не помешало семье Сухово-Кобылиных сделаться в 20–30-х годах прошлого столетия одним из культурных центров старой нашей столицы. Здесь желанными гостями являлись профессора Московского
университета, и господствовали интересы литературы и просвещения.1 Воспитание детей поставлено было у Сухово-Кобылиных, как видно, блестяще. По крайней мере, известно, что Елизавету Васильевну2 обучали и воспитывали такие в свое время выдающиеся лица, как Морошкин3, Раич4 и Надеждин5.
В 1838 году Александр Васильевич окончил, одновременно с Буслаевым6, Ю. Самариным7, Строевым8 и Катковым9, курс Московского университета по второму отделению философского факультета, причем за сочинение награжден был золотою медалью.11 Будучи студентом, он, как большинство из наиболее чутких его современников, увлекался немецкою философией, для усовершенствования в которой после университета отправился за границу, где ему пришлось много путешествовать.
Во время пребывания своего в университете одно время он находился в приятельских отношениях с К. С. Аксаковым10, но в конце концов с ним разошелся.
Очевидно, что цельная, последовательная во всем и строго принципиальная личность одного из наиболее ярких представителей славянофильства не могла прочно сойтись с натурой, не равнодушной к внешним благам жизни и страдающей той раздвоенностью, какая в той или другой степени являлась характерной чертой почти всех людей 30–40-х годов. Увлечения философией и широкое образование уживались в Сухово-Кобылине в молодости с дворянской спесью и сословными предрассудками. В истории романа его сестры с Надеждиным он держит сторону матери12, опасаясь скомпрометировать честь своей фамилии мезальянсом, и ведет себя не всегда безупречно и корректно.13 Европеизм его не мешал ему не только мириться с крепостничеством, но и собственноручно наказывать крестьян.14
И не одни только «высшие сферы» привлекали его к себе, но и светские развлечения в роде модного в то время среди нашей аристократии лошадиного спорта, в котором он проявил большой успех.15
Собственно говоря, ни о внутренних переживаниях Сухово-Кобылина вообще, ни о литературных вкусах и симпатиях его за указанное время мы никаких прямых сведений не имеем. Известно только, что из русских писателей он «упивался» Гоголем, которого лично знал и в котором более всего, по его словам, ценил «веселость». «Я ужасно люблю веселых людей» признавался он одному своему знакомому: «для писателя необходимо быть не только остроумным, но и занимательным». Гоголь, как нельзя лучше, удовлетворял в этот отношении. В нем и «была неотразимая сила юмора». Он был великий комик: «Равных ему я не встречал нигде, за исключением разве одного французского актера Буффа17, которого я частенько видел в своей молодости в парижских театрах».16
Однако, по-видимому, в Гоголе не один смех, как увидим ниже, был родственным и близким нашему писателю, но в известной степени и горечь, которую возбуждали в душе великого юмориста пошлые стороны окружающей его действительности.
В средине пятидесятых годов Сухово-Кобылин задумал первую свою комедию. Пытался ли он что-либо писать до того времени, нам ничего неизвестно. Литературная работа начата была «шутки ради», но, видимо, впоследствии увлекла и серьезно заинтересовала его. Есть основание думать, что первоначальная редакция «Свадьбы Кречинского» была составлена за границей; окончательную же отделку пьеса получила тогда, когда автор ее находился в заключении, в тульской тюрьме.1 Явилась она результатом наблюдения автора над современной русской жизнью. «Среди старожилов города», — сообщала в 1900 году газета «Северный край», — до настоящего времени сохранились сведения о подробностях той семейной эпопеи, которая дала мысль А. В. Сухово-Кобылину нарисовать типическую фигуру Кречинского и его шулерскую проделку с солитером Лидочки Муромской. Многие из характерных черт комедии взяты из ярославской жизни, близко известной автору — местному землевладельцу».2 Даже фамилия Кречинский напоминает Крысинского3, главного героя указанной эпопеи.
Из другого источника нам известно, что Крысинский долгое время жил в Ярославле, где с ним встречался и Сухово-Кобылин в семье местного помещика Ильина5, давшей ему материал для создания Муромского и Атуевой; прототипом же Расплюева послужил некий певчий Ярославского архиерейского хора Евсей Крылов6, состоящий при Крысинском во время его пребывания в Ярославле, биллиардный игрок и шулер, покончивший весьма печально свою жизнь в начале шестидесятых годов в Ярославле, после одной шулерской проделки с актерами местного Teaтра на биллиарде в гостинице «Столбы».4
Постановка на сцене «Свадьбы Кречинского»11 доставила Сухово-Кобылину немало забот и неприятностей.15 Когда комедия зимой 1855 года предложена была для бенефиса А. М. Максимову7, тот наотрез от нее отказался: «Грязная пьеса», мотивировал он свой отказ: «выведены какие-то каторжники, на которых нельзя смотреть без отвращения, и я вовсе не желаю быть ошиканным». С такою оценкой согласился и А. Е. Мартынов8. Один только Ф. А. Бурдин9 остался при особом мнении, предсказывая пьесе большой успех.10
Скептически отнеслись вначале к «Свадьбе Кречинского» и московские театральные знаменитости. Тем не менее решили в конце концов поставить ее в бенефис Шумского12. Сделано это было, вероятно, под давлением общественного мнения, так как незадолго перед тем она читалась в различных кружках и возбудила много толков, которые в целом клонились в ее пользу.13 Такие толки проникли даже в печать. «Недавно, — писал некто П-ъ в «Московских Ведомостях», — мы имели удовольствие слушать чтение одной комедии, написанной г. Сухово-Кобылиным, и были приятно поражены ее достоинствами… Поздравляем нашу литературу с замечательным приобретением: характеры в комедии очерчены ярко и рельефно, интрига весьма занимательна, хотя автор нисколько не думал прибегать
для поддержания интереса к тем дюжинным внешним эффектам, которых можно встретить так много в любой французской пьесе — напротив, все действие вытекает у него из самого характера действующих лиц просто и естественно; если прибавить к тому неподдельный, живой юмор, присутствие которого обнаруживается на каждом шагу неудержимым хохотом слушателей, то нельзя не согласиться, что трудно было ожидать столь зрелого и обдуманного произведения от автора, в первый раз решившегося попробовать свои силы на литературном поприще».1
В Москве «Свадьба Кречинского» имела колоссальный успех. Билеты на представление ее брались с бою, и в театр в те дни, когда она шла, попасть было очень трудно. По этому поводу сохранился следующий характерный анекдот. В конце водевиля «Подставной жених», который шел как-то на московской сцене2, знаменитый комик буфф В. И. Живокини3, игравший отца, по ходу пьесы, должен был пригласить зрителей на свадьбу своей дочери. «Иди, иди, проси к себе на бракосочетание!», — приказывал он дочери. Та конфузливо молчала. «Ну, я за тебя попрошу, — обратился Живокини к публике, — моя дочь выходит замуж, через неделю состоится ее свадьба. Удостойте чести молодых — пожалуйте на свадьбу… Что-с? Вы молчите? Вам не угодно?.. Вот на твоей-то свадьбе и побывать не хотят, а на «Свадьбу Кречинского», посмотри-ка, так и лезут, места не хватает»!4
Не без затруднений поставленная весной 1856 года на петербургской казенной сцене5, комедия Сухово-Кобылина была встречена там с необыкновенным восторгом. Не меньшим восторгом приветствовала повсеместно ее и провинция.6
Способствовали успеху комедии главным образом, конечно, ее художественные достоинства, но важное значение имело также и то, что она давала возможность тогдашним драматическим талантам проявить лучшие стороны своего дарования. Особенно в этом отношении благодарны были роли Кречинского и Расплюева.
Из двух знаменитостей, на долю которых пришлось в первый раз играть Кречинского: Самойлова7 — на петербургской сцене и Шумского8 — на московской, наиболее совершенным оказался Самойлов.9
По словам современного театрального рецензента, «он удивительно воспользовался всеми данными автора, всеми полусловами, всеми намеками его, чтобы воспроизвести перед зрителем лицо живое, типическое, прямо выхваченное из действительности».10 Казалось, что роль Кречинского как будто создана была для талантливого артиста, она дала возможность ему вполне развить его блестящие сценические дарования. Самойлов изображал смелого и ловкого шулера, искусно прикрывавшегося светскими манерами, сквозь которые невольно прорывался порой дурной тон. В этом отношении он выгодно отличался от Шумского, элегантность которого была слишком неподдельна и высока для Кречинских.11 Говорил Самойлов с польским акцентом, исходя, очевидно, из того, что фамилия на ский не русского происхождения. Последнее у одних вызывало недо-
умение, другими же ставилось в заслугу артисту. Некоторым даже казалось, что без акцента Кречинского нельзя было бы и вообразить..
Все сцены, — говорилось в рецензии, на которую мы только что ссылались, — ведены были Самойловым в совершенстве; «на сцене в третьем действии, когда Муромский, после убеждения Нелькина, начинает подозревать Кречинского в покраже булавки и отдаче ее под залог, и когда Кречинский, к изумлению и ужасу Нелькина, вынимает эту булавку из своего бюро и отдает ее Муромскому, — эта сцена была торжеством таланта Самойлова. Он выразил превосходно то оскорбленное чувство достоинства, тот гонор, который необходимо была во всей силе проявить Кречннскому в эту решительную для него минуту. Страшная бледность на взволнованном лице, гордый взгляд, смешанный с презрением, с иронией, с негодованием, поза героя, повелительный жест, звук голоса, с которым г. Самойлов произнес, и выражение, которое он придал этим словам, обращенным к Нелькину: «Сатисфакция… Какая? В чем? В чем? я вас спрашиваю? Вы хотите драться… Ха, ха, ха, ха… Я же дам вам в руки пистолет и в меня же будете целить… Впрочем, с одним условием извольте: что на всякий ваш выстрел я плюну вам в глаза. Вот мои кондиции. Коли хотите, хоть завтра: а нынче… гей! Кто тут?»1 — все это было верхом совершенства и произвело на зрителей громадное впечатление.2
Сам автор комедии был в восторге от игры Самойлова3, но зато его совершенно не могло удовлетворить исполнение роли Расплюева ни на московской, ни на петербургской сцене. В Петербурге — Бурдин4 понял эту роль чисто внешним образом и представил Расплюева грубым и глупым шутом, а сменивший его Мартынов9 «не создал живого лица, но явился просто Мартыновым»10
В Москве — Садовский5 сыграл свою роль высокоталантливо и образцово, он как-то особенно удачно сумел отметить сохранившиеся в Расплюеве простодушие и наивность, «как-то особенно счастливо умел подобрать человеческие ноты для выражения» их. Но все же Расплюев вышел у него совсем не таким, каким он создан был в воображении автора и каким изображен в пьесе. Покойный Далматов6, беседуя по этому поводу как-то с П. П. Гнедичем7, справедливо заметил, что совершенно неестественно, чтобы в своем роде умному и во всяком случае ловкому Кречинскому пришло в голову посылать к невесте с букетом и приглашать на интимный вечер «бывшего человека», каким обыкновенно изображают, с легкой руки Садовского, Расплюева на сцене. Как свидетельствует тот же Гнедич со слов гр. Салияса8, Сухово-Кобылин, увидав Садовского на сцене во время первого представления комедии, пришел в сильное негодование и даже заболел от огорчения. «Он играл хама-пропойцу, а не прогоревшего помещика. Он мне всю пьесу испортил…», — жаловался он Салиясу.11 Только впоследствии, когда лично убедился в огромном успехе Садовского и в том, что успех пьесы в значительной степени исходит от его игры, он махнул рукой и сказал: «Ну, что же, по Сеньке и шапка!
Дай им подлинного Расплюева — его бы не поняли. Этот дешевле, безобразнее, а потому более понятен».1
Из исполнителей других ролей в комедии с необыкновенной яркостью выделился в Москве Щепкин2, художественно изобразивший Муромского. Особенно удалась ему 3-я сцена III-го акта, где он ведет разговор с Расплюевым, которому поручено было занимать гостя. «Тут не знаешь, — говорилось в одной из современных рецензий3, — чем больше любоваться: неизменным ли простодушием старика, соединенным с некоторою туповатостью, не позволяющей ему распознать обман в глаза, или так верно схваченной наглостью его собеседника, который еще обязан своему невежеству тем, что ни в каком случае не чувствует или по крайней мере не дает заметить своего замешательства».4
III.
Современная периодическая пресса отозвалась о «Свадьбе Кречинского» в общем довольно сдержанно и несколько холодно, а в некоторых отношениях даже прямо отрицательно.
Особенно резко встретил комедию Сухово-Кобылина «Пантеон», где успех ее объяснялся исключительно только артистическим исполнением ролей Кречинского и Расплюева. В самой же пьесе отмечалось одно лишь ее достоинство: «она хорошо написана, т. е. все говорят» в ней «языком своего общества и общества такого, где грязный шулер иногда выражается очень нечистоплотно».5 «Но умный и естественный разговор, — говорилось далее в театральном отчете «Пантеона», — не составляет еще комедии».6 Нисколько не занимателен также и самый сюжет. «Что нам за дело до двух шулеров, которых мы не желали бы нигде видеть в обществе и в существовании которых нам приятно сомневаться. Какой интерес возбуждает дурак-отец, жертвующий своею дочерью за подаренного быка, или провинциалка, восхищающаяся раrbleu. Да и естествен ли весь ход и развязка пьесы? Весь фокус-покус с булавкой едва ли сбыточен».9
С таким отзывом в «Пантеоне» несколько сходен был также в одном отношении и отзыв «Отечественных Записок». Содержание комедии, говорилось там, «анекдотическое, и вся она отзывается французским влиянием, отчего частью и теряет свое серьезное значение; главное лицо ее — Кречинский, как это можно заключить из двух-трех слов, какого-то темного происхождения: пройдоха, втершийся в знать путем мошенничества — какие избитые темы! Притом же это лицо не типичное. Если подобные случаи и лица встречаются в хороших обществах, то так редко, что на них можно смотреть решительно как на исключения».7 Наряду с указанными недостатками в «Отечественных Записках» отмечались также в комедии Сухово-Кобылина и ее достоинства, «обличающие в авторе большой драматический талант»: искусно очерченные в ней характеры, несколько интересных сцен и проявленье ума и уменья вести интригу.8
Критик «Русского Вестника»1, не причисляя «Свадьбу Кречинского» к художественным произведениям, видел в ней «умно слаженную пьесу для занимательного и успешного сценического представления».2 «Мы и теперь еще не можем хорошо понять, — говорил он, — как можно было, начиная писать для сцены, показать столько ее знания в первой же написанной пьесе, как можно было особенно не запутаться в довольно сложной интриге и заключить все вытекающие из нее положения не более, как в три акта. Умною мы называем пьесу потому, что везде просвечивает личное намерение и часто сказывается или в метких словах или в удачно подобранных намеках. Автор иногда очень искусно пользуется своими лицами, чтобы, проводя через их язык некоторые пошлости, еще более уронить их в общем мнении. В пьесе чувствуется не только ловкая французская выкройка, но нередко и французский склад ума, метко попадающего, хотя бы лишь отдельными фразами, в некоторые ошибки и смешные увлечения современного общества. В «Свадьбе Кречинского» есть много таких фраз, метких и ловких. Многие из них даже прямо выхвачены из жизни и неминуемо производят свое действие».3 При всем этом комедия Сухово-Кобылина «гораздо дальше от жизни, от нашей действительности, чем все произведения наших драматических писателей. Она не предполагает никакого особенного быта, резко отделенного от других своими обычаями, понятиями и самою постановкою, и не вводит почти никаких новых типов. Она интересует больше интригою и иногда положениями, нежели характерами, и вообще держится больше на общей почве французской комедии, чем на особенностях нашего быта. Герой ее — лицо далеко не новое на сцене».4 Второе из главных действующих лиц в комедии — Расплюев «искусно задуман и удачно выполнен», оригинален, но можно «усомниться в его истинности».5
В общих чертах в таком же роде дан был отзыв о «Свадьбе Кречинского» и в специальном органе «Музыкальный и театральный Вестник».6
«Комедию Сухово-Кобылина, — писал в указанном журнале театральный рецензент П. Шпилевский, — нельзя назвать высоко-художественным произведением: в ней нет идеи; содержание ее относится не совсем к действительному русскому быту, оно заимствовано из общего всем народам сценического запаса; вся комедия построена на особого рода сложной интриге; в ней нет новых типов; характер Лидочки слабо очерчен. В комедии замечается недостаток женщин; отсутствие женского участия в жизни героя как-то делает пустою всю деятельность такого человека, как Кречинский, а ведь такой человек не может обойтись без сильного влияния женщин. Оттого, жизнь его, как игрока, слишком уже неприятна для зрителя».8 В некоторых местах комедии проскальзывают неестественности и несообразности, но ни те, ни другие «не дают права унижать комедию. Увлеченный быстрым и оживленным ходом действия, зритель или вовсе не имеет времени замечать эти несообразности или,
замечая, извиняет их автору ради того, что они часто сообщают сценическому действию быстроту и живость. Легкость языка и уменье пользоваться лицами и событиями возвышают комедию на степень очень занимательной пьесы».1 Мы видим в ней «умно сложенную пьесу для занимательного и успешного сценического представления3. Автор показал много знания в первом своем сценическом опыте; достоинство его знания состоит в том, что он не запутался в довольно сложной интриге и всю эту сложность сумел вдвинуть в три действия. В пьесе много очень дельных метких и ловких фраз, в которых проглядывает умное намерение казнить дурную сторону человека, казнить едко, но без громких, пустых фраз. Многие фразы как бы выхвачены из жизни и производят надлежащее действие. Вообще, «Свадьбу Кречинского» можно смело назвать искусно задуманным и счастливо выполненным сценическим представлением».2
«Библиотека для чтения»4 и «Современник»5 дали о «Свадьбе Кречинского», как художественном произведении, более благоприятный отзыв, хотя высказались об этом крайне осторожно и сдержанно.
Теплее всего встретили появление на сцене новой пьесы «Московские Ведомости». «Публика, — говорилось там, — не могла остаться равнодушной к комедии Сухово-Кобылина, которая ведена логически, последовательно, в которой положения действующих лиц естественны, характеры выдержаны, словом, к пьесе, вполне заслуживающей название серьезного, обдуманного произведения. Если присоединить к этому внешнюю отделку пьесы, обличающую в авторе сценический талант и чувство меры, столь необходимых в драме, то успех комедии становится вполне понятным». При всем этом она написана прекрасным, классическим языком. Конечно, не все страницы этой комедии одинаково хороши, но в ней нет ни одного крупного недостатка, который бросался бы в глаза понимающим дело зрителям. Каждая сцена вполне обдумана и закончена».6
В приведенных отзывах о комедии Сухово-Кобылина немало сказано не только несправедливого, но и справедливого; однако, нельзя найти в них одного ответа на вопрос, где кроется главнейшая причина, вследствие которой комедия имела такой необычайный успех в публике.
Без сомнения, причина эта лежала не в одних художественных достоинствах или сценичности пьесы, но и в том, что в ней изображена живая русская действительность — и именно один из типичных эпизодов этой действительности.
Как же взглянул на последнюю Сухово-Кобылин?
Он не проявил себя односторонним, и не все лица в его комедии отрицательные. Муромский, дочь его Лидочка и Нелькин, до некоторой степени внушают к себе симпатию и уважение, но они в высшей степени ограничены и духовно бессильны. Автора упрекали, что героиня его комедии, какой она изображена там, и Нелькин — безличны, но виноват ли он в том, что такими безличными создала их сама жизнь?.. Лидочка, одна из многочисленных жертв тогдашнего модного воспитания, обусло-
вленного господствовавшим в полуобразованной помещичьей среде легкомысленным взглядом на призвание женщины.
Нелькин — третьестепенный, так сказать, вырождающийся представитель лишних людей 30–40 годов. На словах
«Любит он сильно, сильней ненавидит,
А доведись — комара не обидит!»5
Действующим, в настоящем смысле этого слова, в пьесе лицом является Кречинский, если и не орел, как его аттестовал Расплюев, то, во всяком случае, человек незаурядной активности и даже не лишенный способности к творчеству. Он, как справедливо говорил о нем критик «Современника», «отчаянный пройдоха, льстивый, вкрадчивый, смелый, не останавливающийся ни перед какою подлостью для достижения богатства. Какие пути приводят его к этому: шулерство, воровство или женитьба, ему все равно, — ему нужны деньги, богатство, блеск, значение. Он — картежник не по страсти, шулер не по увлечению; он не принадлежит к неисправимым игрокам, которые никогда не останавливаются, которые любят карты для карт, через руки которых проходят миллионы и которые все-таки кончают тем, что делаются нищими. Для Кречинского шулерство — средство жизни. Но ему необходим большой куш, во что бы то ни стало. Приобретя такой куш, он, разумеется, не остановится, рискнет и, если этот куш принесет ему миллионы, если рука не изменит ему, он не проиграет их и не останется нищим, в том можно быть уверенным заранее, люди с таким характером или приобретают большое значение в свете, или идут в Сибирь, если сорвалось».1
В рассуждениях этих все верно, за исключением только возможности герою, в духе Кречинского, угодить в Сибирь. В нашем обывательском обществе прошлого всегда царило и торжествовало мещанство с оттенком чичиковщины2.
Страдали и даже погибали обыкновенно не Кречинские, а те, у кого являлось желание осмыслить и очеловечить свою жизнь.
Припомним хотя бы лучших представителей нашей литературы той эпохи, которую так метко назвал Пушкин «жестоким веком»3. Кто из них не задыхался в окружающей их обстановке; не изнемогал ранее, чем следовало; не сходил преждевременно в могилу — и не потому только, что они обыкновенно подвергались преследованию со стороны властей, но и потому, что сплошь и рядом ничего не встречали, кроме недоброжелательства к лучшим своим стремлениям у большинства современников и даже иногда в собственных семьях? Об этом свидетельствуют те горькие жалобы и крики отчаяния, которые время от времени вырывались у них в наиболее тяжелые моменты их жизни. «Кто нас уважает, певцов, истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов?» — сказал в 1826 году Грибоедов4. Если не самые эти слова, то смысл их смело мог бы быть по-
вторен не раз по отношению к нашему обществу на протяжении многих лет с заменой выражения: «певцов, истинно вдохновенных»1 другим: «людей, выше всего ставящих в жизни правду, честь и совесть».
Зато Кречинские всегда в нашей жизни пользовались большим успехом, их «деловитость» ставилась в пример «оторванным от жизни мечтателям», их ошибки снисходительно прощались и быстро предавались забвению.
Критик, на которого мы уже раз, выше, ссылались, с своей точки зрения был прав, задавая вопрос, «не была ли бы «Свадьба Кречинского» оригинальнее и не имела ли бы она более сильного значения, если бы автор не допустил своего героя сорваться, а окончил комедию благополучным браком, если бы Кречинский остался прав, а Нелькин виноват?.. Конечно, — писал он, — при таком окончании порок, по-видимому, совершенно навыворот, торжествовал бы, а добродетель была наказана; но разве мы не видим этого часто в жизни. Сколько Лидочек погибло от безнаказанных Кречинских! Сколько доверчивых Муромских было обмануто Кречинскими! Сколько добродетельных Нелькиных осталось в дураках перед Кречинскими! Нравственность пьесы, впрочем, именно не пострадала бы от этого. Комедия с счастливым окончанием, может быть, еще глубже подействовала бы на зрителей и заставила бы многих из них подумать не без внутреннего содрогания, что они пожимают руки, приятно улыбаются и принимают у себя в салонах Кречинских — этих господ с таинственным существованием, не имеющих ничего и истрачивающих ежегодно десятки и сотни тысяч! Зритель вынес бы из театра негодование не только против торжествующих Кречинских, но отчасти и против самого себя, за то, что двери его безразборчиво настежь открыты перед всяким богатством, как бы оно подозрительно ни было. Наказанный порок не успокоил бы его, как теперь. Вот в чем заключалось бы, по нашему мнению, нравственное значение комедии».2
Итак, в своей первой комедии Сухово-Кобылин изобразил одну из «обыкновенных историй» русской жизни. Он не последовал литературной манере Гоголя3: не сделал из своей пьесы сатиры, а представил нам отрицательные типы Кречинского и Расплюева, как мы уже заметили, среди обыкновенных людей, и в этом отношении приблизился к Островскому4. Однако «Свадьбу Кречинского» назвать комедией, написанной в духе Островского, тоже нельзя. В ней мы не найдем ни той углубленности в обрисовке характеров действующих лиц, ни того тонкого анализа социальной среды, какие встречаем в произведениях Островского, но зато и действие, как у последнего, не замедляется в ней вставными эпизодами, а развивается быстро, живо и строго последовательно. Недаром же Островский казался нашему драматургу «иногда утомительным»5.
Не одинаково с Островским относится Сухово-Кобылин и к изображаемой им действительности. Островский беспощадно обнажает зло, но он никогда при этом не теряет веры ни в возрождение людей, ни в торжество лучшего и всегда, так или иначе, проявляет присущую ему чув-
ствительность. Сухово-Кобылин в «Свадьбе Кречинского» созерцает жизнь с едва заметной, но ядовитой улыбкой Мефистофеля.
В то время, как «Свадьба Кречинского» завоевывала себе необычайный успех, автору ее приходилось особенно остро переживать тяжелые испытания.
Около пяти лет перед тем, 9 ноября 1850 года, в Москве за Пресненской заставой было найдено с перерезанным горлом и тремя переломанными ребрами в левом боку тело молодой женщины, оказавшейся французской подданной Луизой Симон-Деманш1, с которой, как гласили официальные документы, Сухово-Кобылин «находился в любовной связи». К следствию по этому делу привлечены были и арестованы четверо крепостных Сухово-Кобылина, проживавших у Деманш в качестве прислуги, и он сам. Несколько дней спустя, однако, Сухово-Кобылин был освобожден и, видимо, оставлен вне подозрения, так как один из обвиняемых его крепостных сознался в преступлении, оговорив при этом, как пособников, остальных трех своих сотоварищей3. В сентябре 1851 года сознавшиеся виновники убийства были присуждены московским надворным судом к соответствующим наказаниям, но, в виду разноречия между членами суда относительно меры наказания, дело перенесено было в уголовную палату, откуда генерал-губернатор Закревский2, принимая во внимание, что приговор палаты не был единогласным, передал его в сенат. К тому же, вскоре после приговора осужденные отказались от прежних своих показаний, утверждая, что они не принимали никакого участия в совершенном преступлении, при чем, один из них заявил, что ранее он говорил неправду потому, что был обольщен приставом Хотимским4, который, будто бы с ведома Сухово-Кобылина, убеждал его взять на себя вину за деньги и отпускную а другой потому, что не в состоянии был вынести бесчеловечных побоев в одном из московских участков. Из 6-го московского департамента правительственного сената дело об убийстве Деманш было препровождено сначала к министру юстиции5, а затем в государственный совет, по распоряжению которого в конце 1853 года назначена была новая комиссия для переисследования и для судебного рассмотрения его во всех инстанциях. В начале 1854 года комиссия начала свои действия. Сухово-Кобылин вновь был привлечен к следствию и арестован. С половины мая до начала ноября ему пришлось высидеть в Тульской тюрьме, а затем он был выпущен на поруки матери6. Дело затянулось до 25 октября 1857 года, когда в соединенном заседании департаментов гражданских и духовных дел государственного совета обвиняемые крепостные Сухово-Кобылина были освобождены от всякой ответственности, а он сам приговорен к церковному покаянию «за любовную связь».
IV.
Несколько лет тому назад в наших исторических журналах чуть не завязалась полемика по поводу обвинения Сухово-Кобылина в убийстве.7 Из написанного по этому поводу более всего заслуживает внимания статья
Голомбиевского1, без всякого пристрастия в ту или другую сторону излагающая фактическую сторону дела на основании материалов, почерпнутых из сенатского архива. В ней непредубежденному читателю трудно отыскать какие-либо более или менее веские данные, по которым можно было бы заподозрить Сухово-Кобылина в соучастии в преступлении.
Вряд ли возможно также допустить, чтобы Сухово-Кобылин, если бы только был он виновен сколько-нибудь в убийстве Деманш, ни одним словом, даже ни одним намеком не обмолвился об этом в своем дневнике, не предназначенном для посторонних и отрывки из которого только недавно появилися в свет.2
Несчастье, нежданно обрушившееся на Сухово-Кобылина, имело громадное значение как для внешней его жизни, так и для его духовного настроения. Прежнее светское времяпрепровождение, полное разнообразных удовольствий, беспечности и рассеянности, было им покинуто и навсегда забыто. Недавний бонвиван, жадно ищущий наслаждений, неистощимый остроумец и незаменимый интересный собеседник, стал избегать людского общества и обратился в замкнутого в себя философа, мучительно ищущего под гнетом тяжелых переживаний высшего смысла существования и мужественно работающего над своим внутренним миром для того, чтобы жить так, как подобает человеку, свято охраняющему свое человеческое достоинство.
В конце концов он сумел выработать для себя новый modus vivendi3 и найти смысл жизни. Но этому предшествовал целый ряд годов, тяжелых испытаний, горьких разочарований и даже отчаяния.
Прежде всего, он ясно понял, что покойная Деманш была для него не только предметом «любовной связи», как ему, быть может, казалось раньше, а близким существом, нежно и глубоко им любимым, и почувствовал, как тяжела было для него ее утрата. Только теперь, когда вокруг него так страшно стало пусто, узнал он цену святой и тихой жизни сердца, которой не ценил тогда, когда она проникала все его существо. «Как нежная и легкая роса после дневного жара, возникают в памяти малейшие события, — писал он в своем дневнике, — слова, иногда только взгляд или движение, и мило и нежно становится на душе. Хорошо жил тот, у кого запали эти минуты в сердечную память».4 Явилась к нему неожиданно слава писателя — и он вспоминает, как «любящий и во всей простоте своей любовию далеко зрящий глаз»5 его Луизы видел в нем эту будущность; «когда случалось мне, — говорит он — являться перед нею в черном фраке и уборе светского человека, часто говорила она мне: Comme vous avez l’air d’un homme de lettres»6. Когда «поток событий тащит» его «в свой водоворот, крутит и вертит, и всяческим смятением и шумом наполняет дух»7, он любит пешком ходить в Лефортово, на могилу его «бедной Луизы», где «так тихо, благоговейно» и где он припадает «к холодному мрамору, на котором вырезано имя, еще глубже вырезанное»8 в его сердце, и просит «милого друга о мирном, тихом и уединенном и
полезном окончании жизни».1 «О годы, годы, прошли вы мимо и, как туман стоите вы среди меня, — заносит он в дневник летом 1859 года в Париже — сзади вас бродят образы, лица прошедшего — тихие лики смотрят на меня грустно — ветер и буря жизни оторвали их от меня и вырвали вместе с ними и мне сердце. Туманный образ Луизы с двумя большими слезами на глазах смотрит на меня, не спуская голубых любящих глаз, и в этих глазах две слезы — на шее рана — в сердце другие раны. Боже мой, как же это я не знал, что так ее любил. Прощай прошедшее, прощай юность, прощай жизнь, прощайте силы, я бреду по земле. Шаг мой стал тих и тяжел».2
В годы тяжелых испытаний не одна только трагедия личной жизни давала о себе знать Сухово-Кобылину. Нелегко ему было одновременно также сознавать, что для дела его имеют громадное значение те разнообразные толки и разговоры, которые велись на его счет в обществе. Вызывала ли их месть за злое остроумие, каким он любил щегольнуть в молодые годы, или просто-напросто невинное желание, за отсутствием других, более серьезных интересов, поговорить для развлечения на пикантную тему, но, несомненно, они принесли ему немало вреда и немало доставили ему горьких минут. Глубоко запали такие разговоры и толки в его душу, и даже впоследствии, много лет спустя, он, вспоминая прошлое, неоднократно жаловался на них своим знакомым. Есть намеки на них и в драме его «Дело».3
Пришлось ему также столкнуться и испытать на себе все ужасы «неправды черной», царившей в так называемом «дореформенном» нашем судебном ведомстве. На него они произвели неизгладимое впечатление, остававшееся живым и острым на всю жизнь. Имя чиновника сделалось для него ненавистным. Он с гордостью заявлял, что никогда нигде не служил, и полушутя-полусерьезно говорил, что желал бы, чтобы это обстоятельство отмечено было на его гробовой плите. Позднее ему пришлось близко подойти и на деле ознакомиться с чиновниками другого ведомства — цензурного, которое не мало доставило ему огорчений, когда он хлопотал о постановке двух своих пьес на сцене и об издании своих философских трудов.
«Какая волокита, — жаловался он по этому поводу в письме к неизвестному нам лицу4, — по-видимому, в конце прошлого столетия, — прожить 75 лет на свете и не успеть провести трех пьес на сцену! Какой ужас: надеть пожизненный намордник на человека, которому дана способность говорить! И за что? За то, что его сатира на порок произведет не смех, а содрогание, когда смех над пороком есть низшая потенция, а содрогание высшая потенция нравственности. Какая нежность полиции; какой чиновничий сентиментализм, или лучше: какое варварство в желтых перчатках, заметьте, против пьес параллельно со всеми доселевыми правительственными реформами! Не имею ли я право в конце моей жизни и в глуши такой ночи закричать, как цезарь Август: «Вар, Вар, отдай мне мои годы, молодость и невозвратно погибшую силу»?5
Но знакомство с цензурным ведомством у Сухово-Кобылина явилось уже после того, как он успел отомстить «подлейшей черни нашей стороны»6, иначе говоря, написал драму «Дело». «Дело», — признавался он Юр. Беляеву, — моя месть. Месть есть такое же священное чувство, как любовь. Я отомстил своим врагам».1 Что названная пьеса явилась плодом ума наблюдений, но только не холодных, об этом он свидетельствует сам. «Дело» не есть, как некогда говорилось, Плод Досуга, ниже, как ныне делается поделка литературного Ремесла, — писал он в предисловии к этой пьесе, — а есть в полной действительности сущее и из самой реальнейшей жизни с кровью вырваное дело».2
«Если бы кто-либо из уважаемых мною личностей усомнился в действительности, а тем паче в возможности описываемых мною событий, то я объявляю, что имею под рукою факты довольно ярких колеров, чтобы уверить всякое неверие, что я ничего невозможного не выдумал и несбыточного не соплёл».3 Вряд ли в настоящее время, когда уже достаточное количество материалов для истории первой половины 19 века увидело свет, можно спорить о том, что факты, положенные в основу «Дела», характерны для своей эпохи, и что таким образом пьеса носит на себе следы художественного обобщения .4
Важнейшие из таких фактов тесно связаны с историей семьи Муромских, вследствие чего было бы естественно, чтобы эта семья или кто-либо из ее представителей занимал в пьесе центральное драматическое положение, но по воле автора главным действующим лицом является в ней Тарелкин. Таким образом, в пьесе оказывается две драмы, причем наиболее удачная из них отодвигается на второй план, составляя как бы отдельный, вставочный эпизод, имеющий второстепенное значение. Другая же, изображающая борьбу Тарелкина с кредиторами, довольно бледна; завязка ее не отличается оригинальностью и только разве развязка в ней носит несколько своеобразный оттенок; комизм, которым она проникнута, в большинстве случаев внешнего характера. В общем, получается довольно длинное драматическое целое, несколько утомительное и лишенное живости, за исключением только тех сцен, которые посвящены драме Муромских, и которые, выделяясь сильным драматизмом, производят глубокое впечатление, особенно со сцены.
Хотя «Дело» во многом уступает «Свадьбе Кречинского», но, тем не менее, Сухово-Кобылин обнаружил в нем новые черты литературного своего дарования. Так, он проявил в нем несомненную способность рисовать сильно драматические сцены и изображать действующих лиц не только с внешней стороны, но и проникать в их психологию. Особенно удался ему заново созданный образ Лидочки, изображенный здесь, по справедливому замечанию Л. Я. Гуревич5, благородно и далеко не шаблонно. «Лидочка, — говорит Гуревич, — не комическая придурковатая ingénue, а наивная по молодости девушка с горячей и возвышенной душей, умеющая любить, умеющая отдаваться любви. В некоторых словах ее звучит глубокая и
скорбная поэзия женского смирения, что-то напоминающее тургеневскую Лизу».1
Обнаружил в «Деле» гораздо глубже свою душу, чем прежде, и отец Лидочки — Муромский. Живо изображены здесь заведующий имениями и делами Муромского Иван Сидоров Разуваев и чиновник Касьян Касьянович Шило, и даже безличный по природе Нелькин стал определеннее; особенно же ярко и красочно нарисованы здесь картины присутственных мест с целым штатом всесильных чиновников, бесконтрольно распоряжавшихся по своему произволу миллионами русских людей и беззастенчиво торговавших правосудием.
«Дело», появившееся впервые в русской печати в 1869 году 2, но поставленное на сцену только в 1882 году3, не имело такого блестящего успеха, какой завоевала себе первая комедия Сухово-Кобылина. Без всякого сомнения, случилось это, главным образом, потому, что она заключает в себе указанные только что недостатки, но в значительной степени помешало должной оценке ее и то обстоятельство, что публика долгое время не могла, как следует, с ней ознакомиться.4
Так как на ней много лет лежал запрет драматической цензуры, долгое время в нее вчитывались только немногие, потому что она, со слов авторитетной тогдашней критики, пользовалась в публике плохой репутацией. Когда же она поставлена была на сцену, то предстала перед зрителями в таком истерзанном виде, что совершенно потеряла свой настоящий колорит. Самые сильные места Сухово-Кобылинского остроумия — оригинального и блестящего — были беспощадно вычеркнуты красным цензорским карандашом и исчезли, лишив пьесу многих самых существенных из ее достоинств. Даже название ее переименовано было в «Отжитое время».5
Только в начале текущего, двадцатого столетия она получила возможность появиться на сцене без исключения.6
Тем не менее, уже в восьмидесятые и в девятидесятые годы, когда «Дело» было вновь поставлено на Александринском и Михайловском театрах, а также в Москве в Театре Корша9, оно обратило на себя внимание, чему в значительной степени способствовало художественное исполнение ответственных в нем ролей такими артистами, как Давыдов10, Свободин11, Сазонов12 и Варламов13. Особенно из них выделялся Давыдов, игравший Муромского. «Старый, дряхлый, отставной капитан измучен, избит нравственно делом, — делился своими впечатлениями один из современных театральных рецензентов14 после спектакля на Михайловском театре с Давыдовым ,— он готов пожертвовать последними остатками своего большого до начала процесса состояния, но в нем заговорила кровь от недостойных намеков князя насчет дочери. Давыдов-Муромский вырастает, слабый голос его крепнет и крепнет, поникшая голова поднимается, и вы узнаете в ней Ермолова, грозного Ермолова… На сцене и в доме все притихает, все обращается в слух; а голос большого артиста беспощадно хлещет людские
гадости, чиновнические пороки. Обыкновенно сдержанные посетители Михайловского театра раздаются громом аплодисментов, и на глазах у многих видны слезы…»1. Сильное впечатление произвел Давыдов в роли Муромского и на другого театрального критика. «Когда в сцене у князя, — писал, между прочим, этот критик — драматическое напряжение достигло крайнего предела, Муромский у г. Давыдова оказался несколько слабоватым на голосовые средства. Но артиста спасла его опытность, и впечатление от этого не ослабилось нисколько. И вся драма, ужасная, дышащая нескрываемой злобой драма, в желчном негодовании сатирического таланта бичующая российское бюрократство, захватила внимание всего театра и буквально приковала к сцене» [57]. V. Если желание автора внести бодрый и здоровый смех в драму «Дело» сильно испортило последнюю, то та же самая причина, можно сказать, совершенно погубила третье по счету драматическое произведение Сухово-Кобылина — «Смерть Тарелкина», переименованное, по совету А. С. Суворина, в силу цензурных соображений, в «Веселые дни Тарелкина». Грубая, местами примитивного характера буффонада, положенная в основу интриги этой пьесы, заслонила собой целый ряд в ней на редкость удавшихся в литературном отношении частностей, свидетельствующих о крупном и своеобразном таланте, создавшем их. Неприятное, можно сказать, какое-то кошмарное впечатление, которое возбуждает в зрителе или читателе «судорочный» смех Сухово-Кобылина, похожий скорее на гримасу мертвеца, чем на смех, не дает возможности в первый момент присмотреться должным образом к комедии. Только тогда, когда близко подойдешь к ней и начнешь особенно внимательно вникать в нее, заметишь в ней то, что до сих пор ускользало от внимания и что представляет значительный художественный интерес. Амфитеатров совершенно справедливо говорит, как мы уже отметили в своем месте, «что, по силе негодования, каким дышит здесь сатира Сухово-Кобылина, «Смерть Тарелкина» резче и язвительнее не только «Свадьбы Кречинского», но, пожалуй, и всего, что до сих пор произвела русская драматическая драматургия». К этому надо добавить, что у Сухово-Кобылина открываются перед нами такие стороны действительности, которых не касался до него никто из наших писателей художников. В этом отношении громадную ценность представляют сцены допроса, к сожалению, в некоторых местах слегка испорченные неуместным шаржем. Ужасающим, но глубоко жизненно правдивым реализмом проникнуты сцены, изображающие полицейские пытки, к стыду нашему, по свидетельству очевидцев, сохранившиеся у нас вплоть до 20 века включительно. В бытовом отношении большой интерес представляют беседы Расплюева с Тарел-киным на тризне в память только что похороненной куклы и появление кредиторов в квартире мнимоумершего Тарелкина. Как живые, проходят перед нами в «Смерти Тарелкина» целою вереницею своеобразные и в то же время типичные личности, среди которых, по силе и смелости изображения, особенно выделяется крупная фигура Расплюева — не того жалкого Расплюева, которого мы знаем по «Свадьбе Кречинскаго», а другого — его однофамильца, замаскированного, по цензурным соображениям, в мундир околоточного надзирателя, но, как это видно по ходу пьесы и как об этом передавал со слов самого Сухово-Кобылина гр. Салияс II. П. Гнедичу [58], изображающего видную личность в чиновничьей иерархии. Расплюев в комедии «Смерть Тарелкина» — администратор не так далекого от нас прошлого, той полосы в нашей истории, когда с каждым днем, порождая протест за протестом, стала давать о себе знать несостоятельность отживающего общественного старого строя, и всполошились все те, кто накануне еще умилялся перед его незыблемостью и совершенством Время это создало своеобразный тип в бюрократическом мире у нас. Опьяненные неимоверно быстрым возвышением и бесконтрольной и безграничной властью люди этого типа в каком-то исступлении готовы были чинить сыск чуть ли не над целой Россией, громко заявляя, что только такими средствами и только они могут спасти отечество, которому подготовляют гибель неблагонадежные элементы. «Все наше! Всю Россию потребуем!» — торжественно и самоуверенно восклицает Расплюев, когда на него возлагается ответственная миссия — следствие по одному из важнейших дел. «Я..а…. теперь такого мнения, — продолжает он далее, — что все наше отечество — это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я всякого подозреваю; а потому следует постановить правилом: всякого подвергать аресту… Да-с. Правительству вкатить предложение: так, мол, и так, учинить в отечестве нашем поверку всех лиц: кто они таковы? Откуда? Не оборачивались ли? Нет ли при них жал или ядов. Нет ли таких, которые живут, а собственно уже умерли, или таких, которые умерли, а между тем в противность закону живут».
Эти угрозы и государственные проекты одного из «спасителей отечества» — классический образец политической сатиры. По силе выражения и меткости его можно поставить на ряду с наиболее выдающимися местами из произведений Салтыкова-Щедрина. «Смерть Тарелкина» была допущена цензурою к представлению только в 1900 году [59]. Сначала явилась она на сцене Художественного театра в Петербурге, а затем на сцене Александринского и Михайловского. Ставили ее также как казенные, так и частные театры и позже.
Однако, как театральное зрелище, пьеса эта ни разу полного успеха не имела, несмотря на то, что почти всякий раз обставлена была образцово и исполнялась выдающимися артистами. Причины полууспеха ее, думается нам, кроются в недостатках ее, как художественно-драматического произведения в целом, а главным образом — в излишнем реализме некоторых
сцен, напоминающих театры, специально приспособленные для любителей сильных ощущений.
Время, когда создавались пьесы «Дело» и «Смерть Тарелкина», и вся трилогия подготовлялась к печати, было тем моментом в переходном душевном состоянии Сухово-Кобылина, в который разочарование в жизни и в людях дошли в душе его до апогея, о чем свидетельствуют как предисловия его к только что упомянутым драматическим произведениям, так и собственные его признания.
Он уже начинал с каждым днем хиреть физически и слабеть душою, как вдруг проснулась в нем жажда жизни, и спасла его. Он стал работать над собой и преодолел, в конце концов, не только отчаяние, но и телесные свои недуги. Как постепенно совершался процесс такого внутреннего его обновления, никто не знает: тайну эту он унес с собою в могилу.
Последние двадцать пять лет жизни проживал он обыкновенно в родовом имении Кобылинке, близ станции Скуратово Московско-Курской железной дороги, в 40 верстах от Черни, маленького уездного городка Тульской губернии.
От обстановки, окружающей его, веяло глубокой стариной. Усадьба его состояла из целого ряда каменных строений самой незатейливой и угрюмой архитектуры. Между ними выдавался своей странной постройкой липовый большой, чуть ли не в 30 комнат, господский дом, издали напоминавший «длинный, узкий сундук, в который кладут приданое купеческим невестам».
Выкрашен он был в серый цвет и покрыт железом. Внутри его комнаты с неоштукатуренными стенами украшала старинная мебель. На стенах висели портреты каких-то улыбающихся дам в необычайно пышных платьях и с цветами на завитых висках. На полках стояло громадное количество книг.
В доме господствовало гостеприимное хлебосольство по старосветскому образцу. Прислуживали престарелые слуги. В обыкновенное, рабочее время хозяина можно было встретить в пестром бухарском халате, в мягких сапогах, с перевязанными тесемкой волосами, чтобы не падали на глаза во время занятий, или в зимнее время в простом тулупе домашнего изготовления. Но проходили часы, посвященные хозяйственным заботам, и внешний вид его совершенно преобразовывался. На нем появлялся изящный костюм, на голове цилиндр, которого не покидал он и в деревне; к обеду являлся он, когда бывали гости, во фраке. По всему видно было, что он тщательно следил за своим туалетом. Большой эстетик и поклонник всего красивого, он и в моде видел выражение духа, а не извращенного вкуса и погоню за новизной, и потому следил за ней. Менял он, следуя моде, не только костюмы, но и экипажи, в которых ездил. Соседи по имению встречали его то в кэбе, то в деревянной, напоминающей складной стул или кровать, французской фермерской колясочке, то в какой- либо другой новомодной коляске.
Вставал он ежедневно в 4–5 часов, с восходом солнца, занимался шведской гимнастикой, затем шел в лес рубить дрова, хлопотал по хозяйству. В течение дня, отдаваясь умственному труду, тоже не забывал ни гимнастики, ни фехтования. Раннею осенью, в сентябре, любил купаться в холодной воде в реке.
Убежденный вегетарианец, он никогда не ел мяса, не пил вина, не курил.
По наружному виду производил впечатление человека значительно моложе своих лет. Высокого роста, стройный, прямой, краснощекий, жгучий брюнет, «с непокорными густыми локонами на красивой голове», «огненный» — он казался всегда полным сил, здоровья и энергии. Манеры его были изысканны.
По свидетельству одного из его современников, он «был на редкость интересным собеседником и владел удивительно образной речью. Редко можно было встретить человека, так удивительно хорошо владевшего русским языком. Скажет — припечатает. Как из пьес его нельзя выбросить ни словечка, так и в устной беседе он, бывало, скажет — рублем подарит, да и насмешит до упаду». Говорил он на высоких нотах, увлекаясь, с несколько иностранным акцентом. Голосом обладал приятным и когда с кем-либо вел речь, особенно с детьми, как-то особенно ласково улыбался. Любовь к детям доходила у него до болезненности, хотя сам он детей никогда не имел, несмотря на то, что был женат три раза.
Какою-то теплотою веяло от его личности. «Когда он приезжал к нам, — говорит Ергольский, — у нас в доме все как-то подвинчивалось, а главное — усваивало ту добрую улыбку, которую он с собою вносил всюду. Улыбался тогда отец, споря с Александром Васильевичем… Улыбалась мать, спрашивая, удобно ли Александру Васильевичу, сыт ли он, не хочет ли отдохнуть, улыбалась и прислуга, глядя на чудного барина, которого она называла Сухкобылиным. А у нас — детей — улыбка так и не сходила с физиономий; нам тогда разрешалось шалить, разговаривать с большими за обедом». Аналогичное такому впечатлению произвел он, по-видимому, и на случайно встретившегося с ним в спальном вагоне железной дороги юного студента К. Н. Ходнева, не замедлившего вступить с ним, после непродолжительного знакомства, в откровенную и непринужденную беседу [60].
Несмотря на то, что Сухово-Кобылин известен был всей читающей России, главным образом, как автор «Свадьбы Кречинского», он продолжал считать настоящим своим призванием философию и практические коммерческие предприятия. «Мое излюбленное и постоянное занятие, — признавался он одному из своих знакомых, — философия. Тут, как известно, не нужны ни особенная живость воображения, ни тем более развинченные нервы». Любимым мыслителем для него был Гегель, последователем которого он себя считал и в духе которого написал философский трактат. Он также осуществил свою заветную мечту — перевел всего Гегеля,
но, к сожалению, все его рукописные труды сгорели в начале настоящего столетия во время пожара, случившегося в Кобылинке. Видимо, близок душе его был и Дарвин. Вот что передает, между прочим, в своих воспоминаниях К. Н. Ходнев: беседуя, «он пожелал узнать, какие предметы я слушал, кто профессора, как читают. На эти вопросы я охотно, с радостью первокурсника, отвечал рассказом о профессорах и научных предметах и, полный увлечения лекциями профессора К. Э. Линдемана, изящного оратора, обладающего исключительным даром красноречия, особенно горячо передал содержание последней лекции, заканчивавшей семестр, и общую часть курса, в которой была изложена теория Дарвина. Услышав это имя, старик еще раз заставил меня повторить о преемственном развитии зоологических форм и видов и, очевидно, отвечая своим мыслям, заговорил о том, что за его жизнь ему пришлось пережить столько всевозможных запрещений, налагавшихся на философскую и научную мысль, — и в России, и за границей, где он живал по долгу, — что ему очень приятно узнать, что теперь будущим деятелям в области сельского хозяйства, вся жизнь которых должна протечь в общении с природой, на первом же курсе дается прочное философское обоснование для правильного понимания явлений природы» [61].
Признавал он также учение Гераклита. К позднейшей же философии относился отрицательно. Толстого, как он сам говорил, не понимал; Ницше — не читал; Шопенгауэра считал «пустомелей».
Более или менее он следил за текущею литературой; выписывал все газеты, журналы, новые книги и с большим удовольствием останавливал свое внимание на чем-нибудь выдающемся новом.
Разбирался он также и в текущих общественных событиях, и нельзя сказать, чтобы его прогнозы насчет будущего не были более или менее остроумны. Так, например, для него ясно было, что сельско-хозяйственные операции современных ему помещиков постепенно сходили на нуль, и он предсказывал целому сословию неминуемое разорение. Вместе с тем предчувствие подсказывало ему, что близится время, когда старый уклад социальной жизни должен будет исчезнуть и заменен будет новым. «Мы, помещики, — писал он по этому поводу одному из своих корреспондентов, — старая оболочка духа, та оболочка, которую он, дух, ныне, по словам Гегеля, с себя скидает и в новую облекается. Где и как? Этого Гегель не сказал, и предоставил решить истории человечества. Это ее секрет. Во всяком случае, верно то, что облечется он ни на Волге, ни на Дону, ниже на берегах моей Плавицы. Смутно, странно и страшно на это здесь у нас смотрят; и я ежечасно вспоминаю новгородскую республику под командою бабы Марфы, где большинство спускало меньшинство в Волхов; словом, тот славянский политический уряд, который ныне в каком-то свином углу практикует раб и болгарин Стамбулов» [62].
При всем этом Сухово-Кобылин в общем все-таки оставался всю жизнь верным тем вкусам и направлениям, какие приобрел в молодые годы. О своих
современниках говорил он, как будто они живы, как будто он еще вчера беседовал с ними. «Слушаешь его, слушаешь, — вспоминает один его знакомый, — и — вдруг самому начинает казаться, что живешь в сороковых годах, что это и в самом деле вчера только было, оглядываешься вокруг — и вокруг те же сороковые годы». Выше мы видели, что привычка к фразеологии сороковых годов сильно отразилась на предисловии к изданию его драматических произведений и способствовала в значительной степени подрыву его литературной репутации.
Напоминал Сухово-Кобылин людей сороковых годов и своими неудачными попытками заняться практическими предприятиями, чему отдавался с большим увлечением. Неизвестно, извлек ли он какую-либо выгоду из пятисотдесятинного леса, который растил в продолжение нескольких лет, но открытый им свеклосахарный завод не выдержал конкуренции с южными заводами. Когда же этот завод обращен был в винокуренный, последний постигла та же участь, несмотря на то, что на него были истрачены громадные суммы, и производство спирта поставлено было на высшую степень совершенства. Недостаток рекламы и неуменье организовать сбыт привели к тому, что водка, как и сахар, не выдержала конкуренции с популярными изделиями того же рода.
Не ладилось у него дело и в ярославском его имении, где он, по его собственным словам, сам создал местность, благоприятную для урожаев; но в первый же год над ним стряслась «такая масса неотразимых трат, затрат, утрат, растрат, потрав, захвата лугов, хищения лесов, разнос инвентаря, что результатом целого года» оказался «нуль» [63].
Так философски в уединении проводил время Сухово-Кобылин. Родная глушь сильно привязывала его к себе, и он подолгу проживал в ней. Второй родиной его была Франция, которую он тоже горячо любил. Особенно ценил он в этой стране высокое развитие человеческой личности. Сравнивая русского и французского земледельца, он приходил к заключению, что французский культурнее и что чувство чести развито в нем больше, чем у русского. «Раз я заметил, — рассказывал он К. Н. Ходневу, — что мои лозы повреждены свиньями; я пошел по следам свиней и увидел, что следы приводят к свинарне одного крестьянина. Я ему говорю: «Ваши свиньи испортили мои лозы», а он мне в ответ: «Non, monsieur, се nе sont pas les miens». Я удовольствовался пока таким ответом, но в другой раз опять следы привели к той же свинарне; тогда я уже строго сказал тому же человеку: «Как же вы утверждаете, что это не ваши свиньи ходят в мой сад, когда уже второй раз я в этом убеждаюсь». На это крестьянин горячо возразил: «Monsieur! Quand je dis que ce ne sont pas les miens, c’est ainsi». — И действительно, как потом оказалось, свиньи принадлежали другому» [64].
Кроме симпатий к французскому народу, Сухово-Кобылина привлекали к западу и семейные связи. В 1857 году он вступил в брак с баронессой Марией Ивановной Де-Буглон [65], мать которой была уроженкой из окрест-
ностей Бордо. Там она владела поместьем Гайрос. Женившись, Сухово-Кобылин купил это имение, некоторое время занимался в нем хозяйством, а затем его продал.
Под конец жизни он приобрел себе виллу по соседству с М. М. Ковалевским, на Ривьере, в восьми верстах от Ниццы, в Болье, где и скончался 11 марта 1903 года и где до настоящего времени покоится его прах.
Последние годы Сухово-Кобылина перед кончиной были омрачены тяжелым для него ударом, сильно пошатнувшим крепкое его здоровье. Он потерял горячо любимую внучку, от приемной дочери его — Луизы Карловны Вебер, по мужу графини Фалетан. «Долго после этого, — рассказывает Ергольский, — вспоминая в разговоре привычки малютки, он бывало плакал горько и как-то сиротливо». Вскоре сошел в могилу также и отец малютки, граф Фалетан, и он остался на попечении единственного для него близкого человека — Луизы Карловны.
Известие о смерти Сухово-Кобылина, говорит Л. Я. Гуревич, «как-то совсем не задело русского общества и отозвалось в печати только несколькими бледными некрологами [66]. Никто в точности не смог указать ни дня его смерти, ни дня его рождения, а относительно главных моментов его жизни и деятельности в печати были повторены лишь очень сбивчивые и противоречивые в частностях легенды».
Несмотря на то, что «Свадьба Кречинского с первого появления ее на сцене не сходила с репертуара наших театров и что «Дело» обратило на себя всеобщее внимание, о Сухово-Кобылине совершенно забыли еще при жизни его. Когда в 1900 году шла впервые в театре «Смерть Тарелкина», многие удивлялись, что автор ее до сих пор еще жив. То же повторилось и в 1902 году, когда он был избран почетным академиком.
Так прожил сравнительно долгий свой век и сошел в могилу один из незаурядных русских людей.
Выросший и воспитанный среди обстановки 30–40-х годов прошлого столетия, он остался во многом верен своей эпохе и, вместе с тем, как в характере своем, так и во внешней жизни проявил крупную индивидуальность. Природа оделила его недюжинным литературным талантом, но этот счастливый дар природы не получил у него надлежащего развития вследствие неблагоприятно сложившихся для того обстоятельств.
Уж впервые вступая на литературное поприще, он знал, что такое несовершенство окружающей его жизни. Тем не менее, здоровый, молодой смех не позволял ему выходить из равновесия и поддерживал в нем силы. Он ставил себя выше действительности, и весело и занимательно рисовал отрицательные стороны ее.
Но вот та же самая действительность болезненно коснулась лично его и обнаружила перед ним еще более отрицательные черты, чем раньше.
Полный негодования и мести; он ополчился против них, избрав орудием борьбы прежний, бодрый и здоровый, смех, способность к которому
у него, однако, исчезла после пережитых им испытаний. В результате явились две последние его пьесы, свидетельствующие о росте в некоторых отношениях его таланта, но искаженные — одна вынужденной веселостью, а другая — страшным «судорожным» смехом.
К несчастью для литературы, он к тому времени решил перенести все свои интересы и деятельность «в другие, высшие сферы, где, как и в верхних сферах атмосферы, больше благодетельной для духа тишины и свободы», но откуда далека мирская суета — живой источник для драматического творчества, и стал чуждаться «класса литераторов», который мог бы указать надлежащее направление его таланту.
Так Сухово-Кобылин преждевременно похоронил в себе писателя, но зато, работая в течение многих лет с необыкновенною энергией над собой, он из прежнего, полного противоречий человека, легко поддающегося искушениям жизни и слабого перед ее невзгодами, обратился в строго принципиальную, гармонически сложившуюся и сильную личность, чуждую раздвоения и нерешительности [67].
С. Переселенков.
ПРИМЕЧАНИЯ.
[1] И. А. Гончаров. «Миллион терзаний».
[2] А. И. Вольф. «Хроника Петербургских театров». Часть III. СПБ. 1884. Стр. 105.
[3] Н. К. Пиксанов. «История русской литературы XIX века». Под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Т. I. Стр. 195.
[4] «Русский Архив» 1910 г., № VIII, стр. 636.
[5] Л. Гуревич. «Сухово-Кобылин». «Вестник и Библиотека Самообразования» 1903 г. № 20.
[6] Приводим их, сохраняя своеобразие правописания подлинника: «Объ литературной, такъ называемой, расцѣнкѣ этой Драмы я разумѣется и не думаю, а если какой-нибудь Добросовѣстный изъ цеха критиковъ и приступилъ бы къ ней съ своимъ казеннымъ аршиномъ и клейменными вѣсами, то едва ли такой оффициалъ Вѣдомства Литературы и журнальныхъ Дѣлъ можетъ составить себѣ понятiе о томъ равнодушии, съ которымъ я посмотрю на его судъ… Пора и этому суду стать публичнымъ. Пора и ему освободиться отъ литературной бюрократiи. Пора, пора публикѣ самой въ тайнѣ своихъ собственныхъ ощущенiй и въ движенiяхъ своего собственного нутра искать судъ тому, что на сценѣ хорошо и что дурно». «Картины прошедшего», М. 1869, стр. 162.
[7] «Отечественные Записки» 1869 г., № VI, стр. 219–220.
[8] «Дело» 1869 г., № VIII, стр. 54–55.
[9] «Всемирный труд» 1869 г. № VI. В том же самом обвиняет Сухово-Кобылина и издатель «Галлереи русских писателей» — И. Игнатов.
[10] «Вестник Европы» 1869 г., № IX, стр. 428–429.
[11] «Энциклопедический Словарь». Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона Т. XXXII.
[12] «Вестник и Библютека самообразования» 1903 г., № 20.
[13] А. Амфитеатров. «Литературный альбом». Стр. 29–48.
[14] Н. К. Козмин. «Ник. Ив. Надеждин». СПБ., 1892. Стр. 457–507.
[15] Н. К. Козмин. Стр. 457. Письма М. П. Погодина к г. С. П. Шевыреву — «Русский Архив» 1882 г., № V, стр. 86. Д. Д. Языков — «Литературная деятельность гp. Е. В. Сальяс» — «Исторический Вестник» 1892 г., № 5, стр. 486. «Библиологические Записки 1892 г., № 7, стр. 489–490.
[16] Темы для получения медалей были предложены в Московском университете: в 1837 году. — «О равновесии гибкой линии, с приложением к цепным мостам»; в 1838 — 1) «О растениях тайноцветных вообще и в особенности о мхах», 2) «Ingenii Horatiani historia interior etc», 3) «О нервной системе, сообразно современному ходу и успехам физиологии». «Краткий отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1836–7 и 1837–8 академические годы», стр. 19—20.
[17] Н. К. Козмин. Стр. 457, 471, 482, 490, 492–493, 500.
[18] Показания дворовых по делу об убийстве Луизы Симон Деманш. А. А. Голомбиевский «Драма из жизни писателя» — «Русский Архив» 1910 г., 2, стр. 251.
[19] Был первым русским джентльменом, получившим приз в Москве. Обскакал в 1843 г. на Щеголе С. П. Мосолова на приз охотников. Появлялся на скачках и позже. В 1856 году лошадь его Шассе выиграла серебряную вещь, которую император Николай I ежегодно предназначал в Англию на император-
[20] Гоголя Сухово-Кобылин знал лично и прекрасно его помнит. Как-то, отправляясь за границу, он отвозил ему в Киев письмо от Максимовича, а затем встретился с ним на корабле, путешествуя по Средиземному морю. «В этом человеке», — говорил он Юр. Беляеву, — «была неотразимая сила юмора. Помню, мы сидели однажды на палубе. Гоголь был съ нами. Вдруг около мачты, тихонько крадучись, проскользнула кошка съ красной ленточкой на шее. Гоголь приподнялся и, как-то уморительно вытянув шею и указывая на кошку, спросилъ: «что это, никак ей Анну повесили на шею?» Особенно смешного в этих словах было очень мало, но сказано это было так, что вся наша компания покатилась от хохота». Юр. Беляев. «У А. В. Сухово-Кобылина». «Новое Время» 1899 г., .N 8355.
[21] «Не твое ли чуткое артистическое чувство», — писал Сухово-Кобылин, посвящая «Смерть Тарелкина» приятелю своёму Н. Д. Шепелеву, — «предрекло Кречинскому серьезный успех еще тогда, когда онъ писался шутки ради, и не от тебя ли слышал я тогда же первое и, могу с правом сказать, единогласное одобрение». А. В. Половцеву он говорил, что «Свадьба Кречинского» написана за границей, а Юр. Беляеву, что окончил эту пьесу и создал лучшие сцены в ней в тульской тюрьме. Мы имели в руках печатный экземпляр книги «Картины прошедшего» с собственноручными поправками автора. Они свидетельствуют, что последний, как большинство настоящих художников, тщательно и кропотливо работал над отделкой своих произведений, придавая значение часто даже, по-видимому, незначительным мелочам. К такому заключению мы пришли, сравнивая разные издания его пьес, которые постоянно более или менее видоизменялись, очевидно, не в силу только одних внешних условий — цензурных или присобления к сцене.
[22] «Новое Время» 1900 г., № 8689.
[23] «Ежегодник Императорских Театров». Сезон 1902–1903 г. Приложение III, стр. 66. О том, каким должен был бы, по замыслу автора, явиться перед зрителями Расплюев, см. ниже.
[24] Ф. А. Бурдин «Первое представление «Свадьбы Кречинского». Из воспоминаний артиста императорских театров» — «Исторический Вестник» , 1891. г., № V, стр. 302–307.
[25] «Несколько слов о предстоящем бенефисе г. Шумского» — «Московские. Ведомости» 1855 г., № 112.
[26] «Московские Ведомости» 1855 г., № 114.
[27] А. С. Гациский. «Нижегородский театр». Нижний Новгород, 1867. Стр. 58.
[28] А. Рембелинский, автор статьи «Еще о драме в жизни писателя», лично знавший Сухово-Кобылина, сообщает, что последний всю жизнь мечтал видеть «Свадьбу Кречинского» на сцене в переводе на французский язык в Париже. Он сам перевел ее и в одну из поездок в Париж свез на просмотр Александру Дюма-сыну. Александр Дюма предсказал пьесе успех, но при условии, если конец ее будет переделан. «Мы французы», — говорил он, — «при всей нашей прогрессивности, в театральной драматургии большие ретрограды, и наша рутина требует, чтобы в конце драмы непременно торжествовала добродетель, а порок понес заслуженное наказание, а у вас в вашей «Свадьбе Кречинского» что? Кречинский смошенничал, Лидочка говорит, что это ошибка, и вручает ростовщику бриллиантовую булавку. Кречинский находит, что это очень хорошо, что он отлично выпутался из дела и может вновь возобновить свою мошенническую деятельность».
Сухово-Кобылин последовал совету Александра Дюма, и пьеса его в новой редакции должна была оканчиваться самоубийством Кречинского в тот момент, когда в квартиру его является полиция. В таком виде комедия шла один раз в на-
чале 80-х годов в музыкально-драматическом кружке в Туле. Сделано было также Сухово-Кобылиным попытка поставить «Свадьбу Кречинского» в новой редакции и в театре Корша, но Корш от этого наотрез отказался, мотивируя свой отказ тем, что «пьеса слишком хорошо известна в первоначальной ее редакции, чтобы можно было ее менять черезъ 30 лет». Старания автора увидеть свое произведение на сцене в Париже не увенчались успехом. Только чуть ли не после смерти его поставлена была она там на каком-то второстепенном театре, но в сильно изуродованном виде и при чрезвычайно жалкой обстановке. «Русская Старина» 1910, № V, стр. 275–276.
[29] «Современник» 1856 Г., № VI, стр. 187–193.
[30] В одном только месте (2-е действие, 14 явление), по свидетельству театральной критики, Шумский оказался выше Самойлова.
Собравшись бежать и надев шубу, Самойлов обыкновенно вдруг останавливался, начинал что-то обдумывать и после минутного молчания пресерьезно говорил Расплюеву:
«Если за нами пошлют фельдъегеря, ведь сейчас догонит».
Расплюев отвечал ему:
«Кто? Курьер?..» и т. д.
Самойлов опять начинал раздумывать и, как бы вдруг напав на новую мысль, поспешно шел к двери, приказывая Федору не выпускать Расплюева. У Шумского Кречинский, приглашая Расплюева бежать, хотел просто потешиться над ним. «Не мог же Кречинский в самом деле», — справедливо замечает театральный критик», рассчитывать на бегство с несколькими тысячами, взятыми у Бека и с бриллиантовой булавкой в тридцать тысяч, когда со стороны Муромских на него веяло жирными миллионами».А. И. Баженов. «Сочинения и переводы» М. 1869, т. I, стр. 171.
[31] Письмо Сухово-Кобылина к В. В. Самойлову от 27 августа 1856 г. — «Русская Старина», т. XII, стр. 207.
[32] П. Гнедич. «Из моей записной книжки» — «Театр и Искусство» 1913 г., № 14.
[33] «Русский Вестник» 1856 г., январь, кн. II, стр. 63.
[34] В провинции из исполнителей роли Кречинского особенно выделялся известный в свое время артист Милославский, служивший в 1856 году в театральной труппе в Казани и гастролировавший в Нижнем. «Роль Кречинского — одна из лучших в репертуаре г. Милославского, — говорит театральный рецензент «Ниж. Губ. Ведомостей» (1856 г., № 49). — Благородство манер, скрывающее от общества низость души Кречинского, аристократизм, если можно так выразиться, привычек его, легко увлекающий Лидочку и обворожающий Атуеву, предупредительность, где нужно, и уменье пользоваться малейшей слабостью ближнего, одним словом, все черты характера Кречинского были выставлены г. Милославским, как нельзя более отчетливо. В продолжение целой пьесы мы с увлечением следили за каждым словом, за каждым движением его, и дивились его искусству. Разговор с Муромским о деревенской жизни, сцена с Нелькиным при возвращении булавки и многие другие, которых мы здесь, по многочисленности их, не выписываем, были ведены им с совершенством, которое невольно исторгало рукоплескание».
[35] «Пантеон» 1856 г., № IV.
[36] «Отечественные Записки» 1856 г., № I.
[37] «Русский Вестник» 1856 г. январь, книга II.
[38] 1856 г., № X, стр. 186–190.
[39] 1856 г., № VI, стр. 187–193.
[40] Статья В. К. — «Московские Ведомости» 1855 г., 152.
[41] «Современник» 1856 г., № VI, стр. 187–193.
[42] Там же.
[43] «Для писателя, — говорил он Юр. Беляеву, — «необходимо быть не только остроумным, но и занимательным. Вот отчего Островский бывает утомитель-
ным. На днях я прочел, что в бенефис Варламова многие зрители вставали во время хода пьесы и уходили из театра. До того им было скучно. Вот вам и хваленый автор». Юр. Беляев. «У А. В. Сухово-Кобылина» — «Новое Время» 1899 г., № 8355.
[44] А. А. Голомбиевский. «Драма в жизни писателя» — «Русский Архив» 1910 г. № II, стр. 243–290. Статьи П. Б. и П. Б. Россиева — там же, № VI, стр. 315–319. «А. В. Сухово-Кобылин: I. Из письма профессора Н. Н. Любавина к издателю «Русского Архива». II. «Все о той же сухово-кобылинской драме», заметки А. М. Рембелинского. III. «Дополнение» — там же, № VII, стр. 447–456. А. Рембелинский. «Еще о драме в жизни писателя» — «Русская старина» 1910 г., № V, стр. 269–283. — «Еще про yбиениe француженки Симон-Деманш» — «Русский Архив» 1910 № VI, стр. 636.
[45] «Русская Старина» 1910 г., № V, стр. 284–288.
[46] Роман Сухово-Кобылина и Деманш красиво рассказан в статье В. М. Дорошевича «Дело об убийстве Симон-Деманш» («Россия» 1900 г., № 500). К сожалению, неизвестно, имели ли место в действительности подробности, сообщаемые здесь, или они являются созданием поэтического воображения автора.
[47] «По городу, можете себе представить, жалуется Атуева Елькину, такие пошли толки, суды да пересуды, что и сказать не могу: что Лидочка и в связи-то с ним была, и бежать-то с ним хотела, и отца обобрать — это все уж говорили, так что и глаз показать ни к кому не возможно было». «Дело» действие первое явление 1-е.
Не пощадила Сухово-Кобылина людская молва и в другом отношении. Одно время говорили, что он никогда не мог написать «Свадьбы Кречинского», потому что был безграмотен, и что название комедии списано с произведения какого-то малоизвестного французского писателя. «Ежегодник Императорских Театров. Сезон 1905–1906 гг. Приложение. Стр. 27.
[48] «К биографии А. В. Сухово-Кобылина». Сообщ. барон Н. В. Дризен. — «Исторический Вестник» 1903 г., № IV, стр. 221.
[49] Кроме непосредственных впечатлений, Сухово-Кобылин, создавая драму «Дело», пользовался сведениями, сообщаемыми ему другими. Так рассказ Ив. Сидорова о том, как с ним чуть не приключилась беда на ярмарке (V-e явление в первом действии), передан был ему М. С. Щепкиным. Другой рассказ того же Сидорова (там же), по свидетельству Сухово-Кобылина, представляет случай, действительно имевший место и рассказанный ему купцом Сорокиным в Петербурге в 1848 году. Печатный экземпляр книги «Картины прошедшего» с собственноручными заметками автора, из библиотеки покойного В. В. Протопопова. С ним мы имели возможность ознакомиться благодаря любезному содействию А. С. Полякова. См. также Библиотека В. В. Протопопова» СПБ. 1912 г. Стр. 26–28.
[50] Сравн. И. В. Гессен. «Судебные реформы», СПБ. 1905.
[51] «Вестник и Библютека самообразования 1903 г., № 20.
[52] Первоначально эта драма напечатана была за границей.
[53] 31 августа на Александринском театре, а затем возобновлялась: 11 октября 1896 г. и 3 сентября 1903 г. Шла она также и на Михайловской сцене. «Ежегодник Императорских театров». Сезон 1902–1903 гг. Приложение 3-е. Стр. 71–72 и Сезон 1903–1904 гг., стр. 17–19. Здесь жe переименованы фамилии артистов и артисток, последовательно исполнявших роли в этой драме. Входило несколько раз «Дело» в репертуар государственных театров и за последние годы.
По словам П. П. Гнедича, пьесу Сухово-Кобылина, эту «жертву, столько времени томившуюся в Главном Управлении по Делам Печати, впервые вырвал из чиновничьих когтей» А. А. Потехин. «Хроника русских драматических спектаклей на императорской петербургской сцене 1881–1890 годов» — «Сборник историко-театральной секции». Т. 1. Петроград, 1918. Стр. 13.
[54] П. П. Гнедич полагает, что «Дело» в восьмидесятых годах прошлого столетия оказалось еще недоступным большинству публики, воспитавшей свои вкусы на
легкой комедии и оперетке 70-х годов. «Надо было пройти, — говорит он, — еще двадцатилетию, чтобы оценили его по достоинству, и оно заняло бы то место в драматическом репертуаре, что присуще ему по праву». Там же. Стр. 13–14.
[55] О цензурных мытарствах «Дела» см. статью бар. Н. В. Дризен «Очерк драматической цензуры эпохи Александра II» («Русский библиофил» 1916 г., № II, стр. 43–45). В ней между прочим указаны те места драмы, которые запрещены были для сцены.
В 1887 году в Москве было напечатано «Дело» 2-м изданием, исправленным и сокращенным по указанию сцены, как сказано на заглавном листе, и, само собою разумеется, по приказанию цензурного ведомства. Это издание, равно как и два экземпляра книги «Картины прошедшего», принадлежащие Центральной Библиотеке Русской Драмы Петроградских Государственных Театров, с цензурными заметками и исправлениями по указанию Сухово-Кобылина, ясно говорят о том, что последний сознавал или, по крайней мере, чувствовал недостатки своего произведения и не мало приложил трудов к тому, чтобы их исправить. Из наиболее значительных дополнений обращает на себя внимание вновь написанная им сцена, где фигурируют Нелькин и Лидочка, объясняющиеся друг другу в любви.
[56] Василий Сил-вич. «Московские Ведомости» 1892 г., № 16.
[57] Юр. Беляев. «Мельпомена». Стр. 115.
[58] П. П. Гнедич. «Из моей записной книжки» — «Театр и Искусство». 1913 г., № 14.
[59] О первом представлении этой пьесы см. статью В. М. Дорошевича — «Россия» 1900 г., № 502.
[60] О жизни Сухово-Кобылина за последние 25 лет его жизни см. Юр. Беляев. «Мельпомена». Его же — «У А. В. Сухово-Кобылина». «Новое Время». 1899 г., № 8355. Его же. «А. В. Сухово-Кобылин» — там же, 1903 г., № 9709. Почитатель. «А. В. Сухово-Кобылин» — там же, 1903 г., № 9708. А. Р. «Из воспоминаний о А. В. Сухово-Кобылине» — там же, 1903 г., № 9712. Александр Ергольский. «Памяти А. В. Сухово-Кобылина. Из личных воспоминаний». — «Одесские Новости 1903 г., № 5921. П. Д. Боборыкин. «За полвека». — «Русская Старина» 1913 г., № I, стр. 21–24. И. А. «Семинарист у А. В. Сухово-Кобылина» — «Исторический Вестник» 1908 г., . № XII, стр. 1123–1128.
[61] К. Ходнев. «Встреча с А. В. Сухово-Кобылиным» — «Русская Старина» 1903 г., № VI, стр. 625–628.
[62] «К биографии А. В. Сухово-Кобылина» — «Исторический Вестник» 1903 г., № IV, стр. 221.
[63] Там же, стр. 220.
Даже «Свадьба Кречинского», доставившая значительный доход казне, долгое время не приносила ему никакой выгоды, так как в прежнее время пьесы, поставленные в бенефис какого-либо артиста императорских театров, поступали в собственность дирекции и ею не оплачивались. Только лишь после усиленных и неоднократных ходатайств по разным инстанциям ему в конце концов удалось, по приказанию Александра II, подучить единовременное пособие в 5 тысяч рублей взамен гонорара за постановку его комедии на государственной сцене.
[64] «Русская Старина» 1903 г., № VI, стр. 628.
[65] По словам П. Б., по смерти Марии Ивановны Сухово-Кобылин женился в 1863 году на какой-то англичанке, которая скончалась 27 января 1868 года и похоронена на Введенских горах в Москве. Тому же П. Б. приходилось слышать и о третьей его супруге — русской. «Русский Архив» 1910 г., № VI, стр. 315, и № VII, стр. 455.
[66] См. следующие издания 1903 г.: «Новое Время» — № 9705, «Новости» — 700, «Заря» — № 13, «Московские Ведомости» — 71, «Нива» — № 12, «Театр и Искусство» — № 12, «Правительственный Вестник» — № 58, «Исторический Вестник» — № 4, «Литературный Вестник» — № 4, «Петербургские Ведомости» — 71, «Русские Ведомости» — № 71, «Пр. и Ж.» — № 17, «Вестник Европы» — № 4 и «Ежегодник Императорских Театров» — сезон 1902–1903 г., приложение 2-е.
[67] «Свадьба Кречинского» первоначально появилась в «Современнике» 1856 года » т. 57, а затем в том же году вышла отдельным изданием. В 1898 году она вновь была напечатана, с приложением 9 рисунков, и рассылалась подписчикам журнала «Будильник» в виде премии.
Были сделаны попытки написать новую пьесу, в которой в качестве действующего лица фигурировал Кречинский. Первая из них принадлежит А. Е. Ващенко-Захарченко («Смерть Кречинского». Сцены и картины въ 3-х актах М. 1862), вторая — Г. Т. Северцову-Полилову («Мостъ в Америку — Кречинский в старости», комедия в 4-х действиях СПБ. 1910 г.). Внешним образом также с «Свадьбой Кречинского» связана комедия в 2-х действиях В. Базарова — «Кречинский в юбке», разрешенная в 1891 г. к представлению под заглавием «Преступная теща».
В самом начале текущего столетия Московской театральной библиотекой С. Ф. Рассохича издан был литографированный экземпляр комедии «Расплюевские веселые дни» («Смерть Тарелкина»). В нем есть, сравнительно с печатным текстам, разночтения, впрочем, незначительного характера. Кроме того, в этом издании каждое действие имеет свой подзаголовок. Так 1-е называется Вступление в должность, 2-е Закуска, 3-е Мечты, 4-е Как на свете все превратно.
О Сухово-Кобылине и его литературной деятельности, кроме указанного выше, см. также: О. Дымов… «Дилетантское творчество» — «Биржевые Ведомости» 1903 г., № 33. Языков Д. Д. «А. В. Сухово-Кобылин» М. 1903. Проф. Б. В. Варнеке. «История русского театра». Скабичевский А. М. «История новейшей русской литературы», Гл. XXIV. Бороздин А. К. «Литература 19 века».
А. А. Григорьев и А. Н. Островский.
I
Островский в оценке Григорьева.
Статья В. С. Спиридонова.
Аполлон Григорьев глубоко и верно понимал Островского. Но взгляды его, на драматурга в свое время не были поняты, а затем и совсем были забыты, в чем повинен был отчасти сам Григорьев, не сумевший, в силу разных причин, с достаточной полнотой и определенностью выразить своего понимания автора «Своих людей». В своей статье «Русская литература в 1851 году» он торжественно объявил Островского «новым словом» в литературе, но не объяснил при этом, что он понимал под этим «новым словом». Враждебная критика подхватила это выражение и в течение ряда лет с легким сердцем потешалась над Григорьевым. «Новое слово», — писал Дудышкин — показывается лишь в самом конце долгого умозрительства г. Григорьева, как отрадное видение, как светлый призрак, как заря будущего. Он еще не нашел его, но ждет его от г. Островского, и уже заранее приходит в восторг при мысли, какое это будет удивительное «новое слово». Задав читателям эту загадку, г. Григорьев опускает занавес. Представление кончено. Многие, в свою очередь, могли бы спросить: сказал ли хоть одно «новое слово» сам г. Григорьев? Ответ будет не труден: он сказал так много «новых слов», что все фельетоны, взятые вместе, не произвели равного количества в целый год».[1].
Понял Григорьева, но не согласился с ним Дружинин, смотревший на Островского, как на подражателя Гоголю. Разбирая «Бедную невесту», он говорил: «В настоящее время Островский еще подражает Гоголю, подражает ревностно и даже раболепно, подражает очень удачно, но не
[1] «От. Записки» 1853, т. 86, отд. IV, с. 45–49.
более», и, возражая, без сомнения, Григорьеву, добавлял: «нового направления он еще не сыскал, нового слова им не сказано!»[1]. Не один Дружинин, а большинство критиков начала пятидесятых годов смотрело на Островского, как на подражателя Гоголю. Подобный взгляд на драматурга Григорьев считал глубоко ошибочным, но пока не решался обстоятельно высказаться по этому вопросу. «Об этом, — писал он — надобно говорить слишком много или покамест вовсе не говорить. Сказать, что отношение Гоголя к действительности есть, так сказать, «трансцендентальное», тогда как отношение к ней автора «Своих людей» — совершенно прямое… значило бы подать только повод к нелепым предположениям, что мы ставим Островского выше Гоголя»[2].
Брошенную здесь параллель между Гоголем и Островским Григорьев углубил в следующем году в своей статье «Русская изящная литература в 1852 году», где он главное место отвел разбору «Бедной невесты». В этой работе он снова повторил, что Островский преемник и продолжатель Гоголя, а отнюдь не подражатель, в чем легко убедиться, всмотревшись глубже в характер мировоззрения и в сущность творчества того и другого художника. Гоголь и Островский — оба с прочно сложившимся мировоззрением, сходным по своей сущности, но различным по своим оттенкам. Мировоззрение Гоголя имело характер отвлеченный, тревожный и болезненно юмористический. Мировоззрение же Островского было с оттенком, которое можно назвать «коренным русским миросозерцанием, здоровым и спокойным, юмористическим без болезненности, прямым без уклонения в ту или другую крайность, идеальным, наконец…. без фальшивой грандиозности или столь же фальшивой сентиментальности» [3].
Вследствие различия в мировоззрении того и другого писателя, различно было и отношение их к изображаемой действительности: отношение Гоголя выразилось «в юморе и притом в юморе страстном, гиперболическом[4] . Отношение же Островского к изображаемой жизни было «прямое, чистое, непосредственное, насколько вообще возможно такое отношение в век разъединения идеала и действительности[5]. А отсюда — не одинаковы были и задачи, какие были призваны разрешить в своем творчестве оба художника. Задача Гоголя была чисто отрицательная: «сказать, что дрянь и тряпка стал всяк человек, выставить пошлость пошлого человека, свести с ходуль так называемого добродетельного человека, уничтожить всё фальшивое самообольщение, привести, одним словом, к полному христианскому сознанию». Свою задачу Гоголь выполнил гениально:
[1] Соч. Дружинина, т. VI, с. 639.
[2] «Москв.». 1852, т. III, отд. V, рец. о «Библ. Для чтения», с. 45.
[3] Полное собрание соч. и писем Ап. Григорьева, под ред. Вас. Спиридонова, т. I, Изд. II. П. Иванова. П-град. 1918, с. 159
[4] Там же, с. 110.
[5] Там же, с. 215.
он сказал «слово полное и цельное… слово, наконец, последнее, потому что дальше в его направлении идти нельзя и некуда»[1]. Нужно было «новое слово» и новое отношение к жизни. То и другое дал в своих комедиях Островский, явившийся на литературную сцену, как «разумное историческое и самостоятельное последствие» гоголевского слова. Он пошел в своем творчестве от того пункта, где остановился Гоголь, но пошел в ином направлении, в направлении прямого и спокойного выявления и изображения коренных основ народной жизни, сказав тут «новое слово» и показав новое отношение к действительности. В подтверждение своих соображений Григорьев дал в своей статье обстоятельный анализ «Бедной невесты», закончив его словами: «Бедная невеста», несмотря на свои недостатки, должна явиться «замечательным произведением во всякой литературе, а задачи ее так широки, благородны и новы, что, без сомнения, поставляют автора в главе современного литературного движения» [2].
Статья Григорьева, богатая по содержанию и серьезная по своим взглядам, не получила справедливой оценки со стороны критики. «Отеч. Записки» и «Современник» обошли ее молчанием. Другие же органы не нашли в ней ничего достойного внимания, кроме отдельных слов, выражений и случайных промахов, которые они извлекли из статьи для того только, чтобы поглумиться над Григорьевым. Так, Булгарин наполнил три больших столбца случайно выхваченными из статьи словами и выражениями, не имеющими без связи с целым никакого смысла, и следующим образом закончил свой отзыв: «Автор статьи вводит в русский язык слова из всех возможных языков, чтобы другие подумали, что он силен в них… Настоящее шутовство! А ныне это в моде между писателями, которые, как говорит автор статьи, за исходную точку в литературе принимают появление в свет Мертвых душ и Ревизора, автора которых ставят выше Мольера и на одной линии, хотя несколько выше, с Шекспиром! Спрашиваю: для кого пишут эти господа? Откуда почерпают это смешение языков? Какие из этого могут произойти последствия для языка и слога?»[3].
Григорьев более года не делал попытки говорить серьезно об Островском. Если он и писал о нем за это время, то лишь попутно. И только в 1854 году, увлеченный «Бедностью не порок», игранной на сцене, Григорьев снова заговорил восторженно о своем кумире, но на этот раз не в прозе, а в стихах. Он поместил в «Москвитянине» элегию-оду-сатиру, под заглавием: «Искусство и правда»[4], где дал восторженную характеристику «грозному чародею» Мочалову, обрушился на выступавшую тогда в Москве Рашель, в игре которой он не нашел ничего, кроме фальши и искусственности, и пропел дифирамб Любиму Торцову, как национальному герою и «глашатаю истины»:
[1] Там же, с. 110, 146 и 147
[2] Там же, с. 167
[3] «Северная Пчела» 1853, № 39. Курсив везде Булгарина.
[4] В рукописи, хранящейся в Пушкинском Доме, «Рашель и правда».
…….театра зала,
От верху до низу, одним
Душевным, искренним, родным Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой [1].
Это стихотворение, верно выражавшее настроение кружка, но вызывающее по форме, дало враждебной критике повод к новым насмешкам над Григорьевым. Исключительна по своей грубости была насмешка М. А. Дмитриева. Григорьев в качестве эпиграфа к своему стихотворению взял стихи Лермонтова:
О как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!
Воспользовавшись этим эпиграфом, Дмитриев написал на Григорьева Эпиграмму, которая возмутила даже противников критика, эпиграмму такого рода:
Вы говорите, мой любезный,
Что будто стих у вас железный!
Железо разное: цена
Ему не всякая одна!
Иное на рессоры годно,
Другое в ружьях превосходно,
Иное годно для подков:
То для коней, то для ослов,
Чтобы и они не спотыкались!
Так вы которым подковались? [2]
Критика глумилась над «новым словом» Григорьева, но сама была бессильна понять Островского. Она порицала драматурга то за положительные, то за отрицательные типы и дошла, наконец, до того, что комедии «Бедная невеста» и «Не в свои сани не садись» отнесла к числу «слабых» и «фальшивых» произведений, а «Бедность не порок» охарактеризовала, как произведение «кичливой бездарности» [3]. А в это время Островский успел своими комедиями создать народный театр, снискать горячие симпатии общества и найти ряд последователей и подражателей, произведения которых охотно печатались в тех органах, где Островского
[1] Стих. Ап. Григорьева. Под ред. Александра Блока. Изд. К. Ф. Некрасова. М. 1916, с. 153–160
[2] «Москв.» 1854, т. II, отд. VШ, с. 20.
[3] Слова Добролюбова. См. Полное собр. сочинений, под ред. Мих. Лемке, т. I. Изд. А. С. Панафидиной. СПБ. 1911, с. 1–14.
зачисляли в разряд «кичливых бездарностей». При таком положении для выяснения значения Островского, как нового явления в литературе, нужно было говорить много и долго, а не ограничиваться провозглашением его «новым словом» и выражением восторга в стихах.
Это понял Григорьев и решил в 1855 году выступить с обширной работой о драматурге. По намеченному плану, он предполагал в ней сначала обозреть деятельность Островского, показать бессилие современной критики, понять и оценить драматурга, как новое явление в литературе, а затем выяснить значение последнего, как выразителя коренных основ нашей народной сущности. Для последней цели он решил избрать далекий и окольный путь, начать, выражаясь его словом, «ab оvо», а именно: он хотел было предварительно проследить историю отношений нашей литературы к народности, начиная с далекого прошлого и кончая его временем включительно, чтобы потом рельефнее оттенить особенный характер этих отношений в творчестве Островского, по сравнению с предыдущей литературой, и тем самым определить его значение, как народного драматурга, выводящего нашу литературу на путь самостоятельного творчества.
Таков был план работы, оставшийся далеко невыполненным. В первой статье, напечатанной в 1855 году в «Москвитянине», Григорьев лишь кратко обозрел деятельность Островского, проследил отношение к нему современной критики, бегло остановился на некоторых литературных памятниках старины и едва коснулся Посошкова. Вторая же статья, с пометкой в конце: «Продолжение в следующей книжке, а до окончания еще очень далеко», была запрещена цензурой. Это обстоятельство, а затем материальная нужда, болезнь и поездка заграницу были главными причинами, помешавшими Григорьеву закончить свою работу. Спустя несколько лет, Григорьев вернулся к вопросу об отношении нашей литературы к народности, главным образом, в своих статьях: «Взгляд на русскую литературу по смерти Пушкина», «Тургенев и его деятельность» и «Развитие идеи народности в нашей литературе». До некоторой степени эти статьи являются продолжением и углублением вопросов, затронутых в статье «О комедиях Островского». Тогда же он посвятил специально Островскому статью: «После «Грозы» Островского». А затем в последние годы жизни он уделил много внимания драматургу в своих статьях о театре.
Статьей «После «Грозы» Островского», написанной в форме писем к И. С. Тургеневу, Григорьев начал «новый курс», в котором он намеревался повести «долгие и совершенно искренние речи» [1] о значении деятельности Островского по поводу его последней драмы «Гроза». По своему содержанию этот курс не нов: Григорьев повторил и углубил в нем то, что он говорил уже о драматурге в своих статьях москвитяниновского периода. Но есть существенная разница в приеме или способе, каким пользовался Григорьев для выяснения значения Островского в своих
[1] Соч. Ап. Григорьева, под ред. Н. Н. Страхова СПБ. 1876. Т. I, с. 453.
прежних статьях и в этом последнем «курсе». Раньше он повел было свои рассуждения о драматурге издалека — «ab ovo», а теперь он сократил свой размах: «взял другой прием — кратчайший»[1], начал с возражения Добролюбову и непосредственной оценки драматурга.
Григорьев справедливо указал в своем «новом курсе», что Добролюбов, взглянув на Островского через призму теории, увидел в его произведениях только то, что отвечало его теории, закрыв глаза на то, что ему было не нужно, или этому ненужному дал произвольное истолкование, согласное с своей теорией. И потому неудивительно, что жизнь, изображенная Островским, представилась Добролюбову «миром затаенной, тихо вздыхающей скорби, миром тупой, ноющей боли, миром тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемого глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора, гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма». Над этим миром «буйно и безотчетно владычествует бессмысленное самодурство… не признающее никаких разумных прав и требований» [2]. На явную симпатию драматурга к таким чисто русским натурам, как Любим Торцов, Петр Ильич, Митя, Бородкин и Кабанов, на явную симпатию его к Большову, на любовный и трогательный характер семейных отношений, на типы русских матерей, на целый ряд нежных, глубоких и грациозных женских натур и т. д. — на все это, как ненужное ему, Добролюбов закрыл глаза. Целый мир, созданный художником, Добролюбов разрушил силою своего таланта, и на место живых образов поставил мертвые фигуры с ярлыками на лбу: самодурство, забитая личность, протестантка и т. д.
Зато «Островский, — замечает Григорьев — становится понятен, т. е. теория может вывести его деятельность, как логическое последствие, из деятельности Гоголя. Гоголь изобличил нашу напоказ выставляемую, так сказать, официальную действительность. Островский подымает покровы с нашей таинственной, внутренней, бытовой жизни, показывает главную пружину, на которой основана ее многосложная машина — самодурство»[3].
Григорьев допускает, что Добролюбов, как честный и искренний мыслитель, положил Островского на Прокрустово ложе не преднамеренно, а скорее бессознательно, основываясь на фактах, данных самим же драматургом. Деятельность последнего, как известно, не была единой и гармоничной. Произведения его, написанные в период, когда он стоял в центре «молодой редакции «Москвитянина», никакими сторонами не подходят под начала теории Добролюбова. В произведениях же, появившихся после распадения «молодой редакции», начиная с комедии «В чужом пиру похмелье»,
[1] Письмо Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову от 23 сентября 1861 г.
[2] Полн. собр соч. Н. А. Добролюбова, под ред. М. Лемке. Изд. А. С. Панафидиной. СПб. 1912. Т. 3, с. 322–323
[3] Соч. Ап. Григорьева, под ред. Н. Н. Страхова, с. 460–461.
Островский явно платит дань «современности» и даже «благодетельной гласности»: создает жиденькую, но честную фигуру Жадова, громящего своими тирадами и мир Вышневских, и мир Юсовых; создает честного механика-самоучку Кулигина, облеченного в немецкий костюм и обличающего русский быт и. т. д. Здесь Островский — не спокойный и объективный поэт, с любовью рисующий картины родного быта в произведениях первого периода, а писатель — с «лукавой тенденцией» [1], некоторыми сторонами своей деятельности подтверждающий теорию Добролюбова.
Григорьев с уверенностью полагает, что «Добролюбов, хотя и односторонне, но логически верно вывел теорию из внимательного изучения многих и притом весьма ярких сторон второго разряда комедий и потом, увлеченный страстью к логическим выводам quand même, вопреки самой жизни, подвел под логический уровень и комедии первого разряда» [2]. И Островский, таким образом, неожиданно превратился под пером блестящего критика-публициста в великого писателя, но только как обличитель самодурства нашей жизни.
Не отрицая относительной верности теории Добролюбова, Григорьев, однако, считает слово «самодурство» узким, далеко не обнимающим смысла всех жизненных отношений в произведениях Островского, и имя «сатирика» и «обличителя» мало идущим к поэту, который «играет на всех тонах, на всех ладах народной жизни» [3]. В этом убеждается Григорьев путем тщательного анализа всех произведений драматурга, написанных в первый период, т. е. с 1847 по 1855 г. включительно. В этом же убеждает его и отношение к произведениям драматурга массы, под которой Григорьев подразумевал не одну какую-либо часть народа, а то, что «в известную минуту сказывается невольным общим настроением» во всех людях без различия звания, положения и умственного развития [4]. Симпатии и антипатии этой массы в комедиях драматурга коренным образом расходятся с теорией Добролюбова. А это весьма ценный показатель, так как Островский, как, драматург, создавал свои типы не для кого-либо в отдельности, а «для массы, для которой он, пожалуй, как поэт ее, поэт народный, есть и учитель, но учитель с тех высших точек зрения, которые доступны ей, массе… с точек зрения, ею, массой, понимаемых, ею разделяемых»[5] . Особенно резко разошлась масса с Добролюбовым в понимании «Грозы», появившейся после «Темного царства». Эта драма, представленная на Александрийской сцене, произвела на массу исключительно сильное и глубокое впечатление не вторым актом, который, хотя с трудом, но все же можно подвести под теорию Добролюбова, а концом третьего, где «решительно ничего иного нет, кроме поэзии народной
[1] К. Леонтьев. Собрание сочинений. Изд. В. М. Саблина. М. 1912. Т. 8, с. 101-102
[2] Соч. Ап. Григорьева, под ред. Н. Н. Страхова, с. 466.
[3] Там же, с. 464.
[4] Там же, с. 454–455.
[5] Там же, с. 454.
жизни, смело, широко и вольно захваченной художником в один из ее существеннейших моментов, не допускающих не только обличения, но даже критики и анализа: так этот момент схвачен и передан поэтически, непосредственно… Вы знаете этот великолепный по своей смелой поэзии момент — эту небывалую доселе ночь свидания в овраге, всю дышащую близостью Волги, всю благоухающую запахом трав широких ее лугов, всю звучащую вольными песнями, забавными, тайными речами, всю полную обаяния страсти глубокой и трагически-роковой. Это ведь создано так, как будто не художник, а целый народ создавал тут. И это-то именно было всего сильнее почувствовано массою и притом массою в Петербурге, диви бы в Москве»… [1]
В подтверждение слов Григорьева здесь уместно будет привести мнение лица из той массы, о которой говорит критик, мнение К. Леонтьева, величайшего почитателя не Островского в «его всецелости», а таких его высоких произведений, как «Гроза», «Воспитанница», «Грех да беда», «Бедность не порок», «Бедная невеста» и т. д. Леонтьев еще студентом наслаждался этими чудесными произведениями и дома и в театре. Но, восхищаясь ими, он и юношей и в зрелом возрасте понимал их так, как понимал Григорьев, а не так, как Добролюбов. «До статьи Добролюбова — говорит он — нам всем, любившим тогда еще пьесы Островского, и в голову не приходило, что автор обличает все грубое и жесткое в быту старого купечества. Мы, любуясь в театре этими комедиями и читая их, воображали, напротив, что г. Островский изображает с любовью русскую поэзию купеческого быта… Аполлон Григорьев был только выразителем этого общественного чувства»[2] .
Анализ произведений драматурга и голос массы убеждают Григорьева, что имя для Островского — не сатирик и обличитель, а народный поэт. Ключ к пониманию его созданий — не «самодурство», а «народность», понимаемая в широком смысле, в смысле национальности. Стремление к народности началось в нашей литературе не с Островского, а гораздо раньше, но в деятельности последнего она определилась точнее, яснее и проще. В этом смысле Григорьев и назвал комедии драматурга «новым словом» в литературе, над которым так долго и жестоко глумилась враждебная критика. «Новое слово» Островского выразилось: во-первых, в новости быта, изображенного драматургом и до него нетронутого, если не считать некоторых рассказов Луганского и Вельтмана. Изображенная Островским жизнь — русская жизнь, его герои — типы русских людей; в миросозерцании, отразившемся в его комедиях, выразился взгляд на жизнь свойственный «всему народу, определившийся только с большею точностью, полнотою и, так сказать, художественностью в передовых его слоях».
[1] Там же, с. 449–450.
[2] К. Леонтьев. Собрание сочинений. Изд. В. М. Саблина. М. 1912. Т. 8, с. 101-102.
Под передовыми слоями Григорьев понимал «не касты и не слои, случайно выдвинувшиеся, а верхи самобытного национального развития, ростки, которые сама из себя дала жизнь народа»[1]. Во-вторых, в новости отношений автора к жизни вообще, к изображаемому быту и выводимым лицам в особенности. Отношение это было «объективное, спокойное, чисто поэтическое, а не напряженное, не отрицательное, не сатирическое», какое было у Гоголя, и «не сантиментально-желчно-болезненное», какое наблюдалось в произведениях петербургской натуральной школы[2] . В-третьих, «в новости манеры изображения», состоящей в объективном и жизненно-правдивом представлении жизни и человека, в противоположность творчеству Гоголя, изобилующему художественными гиперболами и лирическим юмором [3]. В-четвертых, «в новости языка, его цветистости, особенности». Герои Островского говорят языком своего сословия, причем это язык — не касты и не местностей, а русский язык, развившийся на основе его коренных этимологических и синтаксических особенностей[4].
Григорьев намеренно придал своей статье резко полемический характер, руководствуясь нескрываемым желанием вызвать на ответную полемику Добролюбова и других «тушинцев», как он обычно называл сотрудников «Современника». Но он ошибся в своих расчетах: по его же словам, от его статьи «приходили в восторг люди порядочные», но печатно ему никто не отвечал. Правда, потом ответил ему коротенько и, признаться, поверхностно Добролюбов в своей статье «Луч света в темном царстве», но это было уже месяцев через девять-десять после появления статьи Григорьева.
Это обидное молчание критики, а затем последовавшее недоразумение с редактором «Русского Мира», где печаталась работа, заставили Григорьева прекратить свой «курс» на первой же статье. А он надеялся вести долгие рассуждения об Островском, чтобы высказаться о значении его деятельности обстоятельно и до конца. Эта первая же статья из «курса», хотя и представляет собой законченное целое, все же далеко не выражает с достаточной полнотой и определенностью его взглядов на драматурга. Он не успел рассмотреть в ней произведений Островского второго периода и в связи с этим дать ответы на ряд существенных вопросов, только поставленных им в первой статье, а именно: «В самом ли деле Островский, начиная с комедии в «Чужом пиру похмелье», идет иным путем, а не тем, которым он пошел после первой своей комедии, в «Бедной невесте» и других произведениях? И который из этих двух путей указывало ему его призвание, если два пути действительно были (а они, эти два пути, являются необходимо, если только принять за объ