*) Автографом, т.е. как бы характерной для данного лица подписью или надписью являлась почти для каждого русского композитора одна или несколько созданных им опер. Ущербны для оперы Балакирев и Лядов, и, кто знает, может быть, «неполон» и Скрябин.
Совершенно справедливая мысль. На требованиях, направленных от общества, от ценящих музыку лиц, к живым творцам ее (не к абстрактному же понятию: музыка) держится жизнь музыки. Так было и в России: и в эпоху борьбы «балакиревцев» с приверженцами Рубинштейна, и в полемике Серова, и в неистовствах Стасова, и в наше недавнее время в спорах за Скрябина, Стравинского и Прокофьева. Но с каким требованием могут сейчас обратиться исполняющие и воспринимающие музыку лица к музыке, как некоей соучаствующей в творчестве жизненных форм силе, если они этой музыки как некоей конкретной данности не признают? Если бы, скажем, в репертуаре нашей оперы были два последних ценных вклада в нее: «Соловей» Стравинского и «Игрок» Прокофьева, можно было бы говорить о наличии желательного или нежелательного уклона в выразительности музыкально-речевой и инструментальной интонации; о том, что же в конце концов знаменуют или знаменовали эти произведения и, в особенности, опыт преломления в музыке творчества Достоевского. Но поскольку (сравнительно) постижим в «чтении» «Соловей» Стравинского, постольку вне живого исполнения сценического труда судить об «Игроке» Прокофьева. Последняя «подпись» из блестящего собрания автографов русских композиторов осталась неразобранной*)!
Но и в области чистого инструментализма еще не осознан, всецело, Скрябин и, если сбросить тягостно принижающее ярмо пошлой оценки с точки зрения «левизны или правизны» в музыке, то окажется, что до сих пор остается в тени и, что еще обиднее, под сомнением (для школьных пастырей, впрочем) глубокоценное симфоническое творчество выдающегося русского современного композитора Мясковского.
Стоит оглядеться вокруг, как один за другим, всплывают долги со стороны правящих музыкальных кругов и музыкальной общественности в отношении тех, кто создает музыку. Благородно выразительная и глубоко волнующая задушевной искренностью красивая музыка, особенно в моменты лирического подъема и восторга, мистерии «Небо и земля» М. Штейнберга остается безмолвной, т. е., виноват, обреченной на безмолвие за отсутствием у всех тех, кто, кажется, не чужд музыки, охоты и желания добиваться знакомства с современным миром музыкального искусства. И даже непонятно, почему со вкусом воплощенное, пленительно мастерское и инструментально затейливое орхестическое произведение того же композитора: «Метаморфозы» уже который год остается вне любопытствующих взоров вдохновителей балетного искусства? Я взял примеры из русской музыки и не буду касаться иностранной, так как вероятно кроме традиционного, хотя и совершенно непонятного сближения Дебюсси-Равель (точно они близнецы) не найти нам у западных композиторов ничего интересного!
В итоге моих размышлений я почувствовал, что требования приходится обращать не к музыке, а музыка должна сказать тем, которые ею живут и благодаря ей считают себя музыкантами: «будьте смелее и перестаньте питаться только прошлым. Или, уже если не можете иначе, то не уверяйте в вечной необходимости для всяких «случаев» во всей будущей истории петь все одну и ту же «оду к Радости». Ведь не так же немощно музыкальное творчество, чтобы отметать весь живой текущий опыт в пользу испытанных радостей.
Музыка достигла, правда, граней столь дальних, что пока достигнутое не распространится в более широкой массе, чем это было до сих пор, сдвига в сознании слушателей, а с ним и воздействия на исполнителей ожидать не приходится. Философская современная мысль, приближаясь к музыке, находит в ней, в ее природе и сущности, характерные для мировоззрения нашего времени черты: напряженность динамики и развернутое во времени тематическое развитие, т. е. рост и формообразование элементов в их органическом взаимодействии. Музыка в конкретной яви убеждает наше сознание в том, в чем размышление лишь в описании, поль-

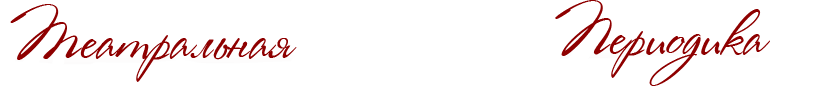
 Еженедельник Петроградских государственных театров. 1922. №1-2 (17-24 сентября )
Еженедельник Петроградских государственных театров. 1922. №1-2 (17-24 сентября )