Все эти словопрения были подняты водоворотом общей суматохи, общей сумятицы. Сколько было ораторов, столько было и мнений. Говорили много вздора. Занимались вопросом: что важнее для театра, — автор или режиссер, артист или зритель. Но все пришли к одному выводу: необходима переоценка прошлого.
Пыль этой сумятицы теперь точно осела, прибитая ливнями революционных дней.
Возродились в стенах театров вопросы, что, по-видимому, были давно погребены, с которыми уже перестали считаться. Но они оказались не только «четырехдневны и смердящи», но живы и правоспособны. Проклятые проблемы выползли из своих логовищ и зловеще сели на самом пути, по которому стремится искусство. Сели властно и властно остановили шествие театра.
Конечно, эта запруда — временная. Разлив прорвет все преграды, смоет все препятствия. Но когда это будет?
***
Мы не можем судить о настоящем. Мы стоим вплотную перед чем-то гигантским, стихийным. Мы не можем распознать, что хорошо, что дурно. Мы видим что-то безобразное, бесформенное, может быть прекрасное. Когда мы отойдем от него на расстояние, когда оно окутается золотистой дымкой дали, быть может, мы увидим, что казавшееся нам отвратительным — гармонично, велико и призывно.
Ясно одно: мы отреклись от старого, отряхли прах от прежней системы ведения дела образцовых театров. Мы в периоде исканий.
Мы должны стряхнуть с себя то, что назойливо лезет в глаза, вопиёт, мешает нам идти вперед, — мы должны отряхнуться от этого.
Первым делом мешало нам чиновничество. Мешало оно нам с дня основания казенных театров с половины восемнадцатого века и до последнего времени. Мешало формальное, департаментское отношение к делу. Хотели втиснуть свободное течение искусства в обычные рамки входящих и исходящих бумаг. Бюрократическая мерка, примененная к сцене — вот главное зло, от которого гибло искусство. Иногда старались превратить свободный Храм Аполлона, даже в военные поселения, а актеров в кантонистов. На Петербургские театры смотрели, как на Петербургскую дивизию, на Московские — как на Московскую. Выдавали приказы и инструкции. Требовалось на все рапорт и отношение.
Чиновник не может смотреть ни на что иначе. Художник Иванов — автор «Явления Мессии» — указывал на то, что в академическом мундире с шитым воротником писать картин нельзя, а можно только стоять вытянувшись. То же и в театре. Нельзя одними инструкциями и диспозициями поддерживать его жизнь.
Во главе театров стояли лица, случайно попавшие на эту должность. Их настоящее дело было заседать в интендантствах и коннозаводствах, где, быть может, они принесли бы пользу. Лица, стоявшие во главе управлений, не думали об искусстве. Они перебивали театральные залы новым плюшем, заботясь о том, какие цвета обивки более нравятся высокопоставленным лицам. Они достигали своей цели, и доказывали, что в их натурах загублены недюжинные обойщики-декораторы и тонкие дипломаты. Последнее сказывалась в том, что они к праздникам и на новый год получали звезды.
Отношение директоров к русской драме было самое убийственное. Думали о балете, об итальянской опере, о французской труппе. Потом стали заботиться о русской опере. Но драма была всегда нелюбимым пасынком дирекции. К ней относились свысока, особенно когда повеяло реальным духом, — «запахло тулупами и очищенной». Один из директоров говаривал, что он потому не заглядывает в Александринский театр, что оттуда «несет капустой», и что туда нельзя «порядочным» людям ездить.
И вот, в то время как и для опер и балетов изводили ежегодно десятки тысяч аршин холста, Островский шел в старых облезлых комнатах, в лесных декорациях,

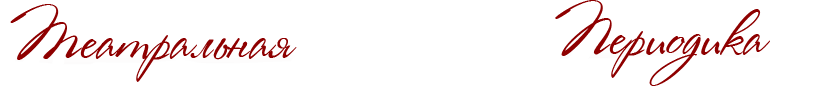
 Еженедельник Петроградских государственных театров. 1922. №1-2 (17-24 сентября )
Еженедельник Петроградских государственных театров. 1922. №1-2 (17-24 сентября )