тельным в своем процессе, но в своем достижении оно заключает в себе зерно неизъяснимых эстетических блаженств и для танцовщицы и для публики. Всякая невыворотная фигура, особенно если она имеет отношение к искусству, кажется опытному в вопросах пластики глазу незаконченною, как бы вышедшею на свет каким-то нераспустившимся бутоном, узкою и тесною в собственном своем рисуночном пределе. От такого впечатления нельзя освободиться, даже созерцая в Олимпии самого праксителевского Гермеса, не говоря уже о плавающем в воздухе лондонском Меркурии. Что-то недосказанное, оборванное и недоделанное лежит на этих фигурах.
Но выворотность господствует не только в балете. Она так же универсальна, как и разобранное нами классическое sussous. Она так же иллюстрируется богатейшим образом искусствами других порядков. Если ни на одну минуту не забывать, что речь идет о разоблачении лица предмета, то трудно ли будет нам привести для пояснения нашей мысли любое число примеров, хотя бы из области литературы? Конечно, великий мастер слова Тютчев, которого Л. Н. Толстой считал выше Пушкина, Тютчев с его интимною затворенностью духа, с его вечным страхом изреченной мысли, с его дымными красочными эффектами, с его замираниями духа даже в патетические моменты, с полутонами его палитры, весь он противостоит выворотности, весь он собран в себе, весь он — en dedans. Напротив, выворотен en dehors активный Некрасов, с его гудящим, как набатный колокол, как шумный революционный призыв, весь — понукание и крик, стихотворным красноречием с поэтического амвона.
Если обратиться от примеров из литературы к изобразительным искусствам, то Рембрандт даст нам чистый образец, как и Тютчев, собранности и замкнутости духа en dedans. Даже его знаменитая картина «Ночной Дозор», в отличие от Леонардовской «Тайной Вечери», вся погруженная в красочную тьму, лишь моментами прорезываемая желтыми пятнами света, в сущности говоря, является гениальною постановкою интимнейшей психологической проблемы. Талант Рембрандта вообще сосредоточен на темах светотени, призванной разрешать задачи этого порядка. В противоположность Рембрандту, может быть, семиотическому гению Голландии, кельтско-фламандский гений Рубенс — весь en dehors. Картины его дышат страстями, высоким подъемом личного начала, брызжущим огнем и светом воли — этого вековечного лица души. Оттого картины Рубенса так декоративны, так пригодны для орнаментации богатых хоромов и дворцов. Оттого так многоголосны и музыкальны его торжественные излияния в красках во вне. Может быть, это один из театральнейших живописцев, в занимающем нас героическом смысле слова.
Вот она эта вторая буква классического алфавита, находящая себе разительные соответствия в смежных с балетом искусствах. Эти два начала, классические пальцы и выворотность, являются незыблемым фундаментом танца, на котором должно строиться и будет строится его здание в предстоящих веках. Как заранее обречены на полное фиаско всякие попытки новейших балетмейстеров, прошедших скудную школу грамотности, или таких вдохновенных сектантов, как Айседора Дункан, поколебать нерукотворные устои балета, недвижный паросский мрамор его колонн! По сей час это искусство танца высится на твердынях своего идейного Акрополя.
Свернутость и развернутость.
Третья буква в героическом лексиконе балета есть croisee, со своим органическим дополнением, которое называется effacee. Что такое croisee? С внешней стороны croisee представляет некоторое подобие той свернутости и затворенности, о которой мы говорили выше. Но и с внешней стороны это кажущееся сходство довольно обманчиво. В одном случае мы имеем дело со свернутостью частичною,

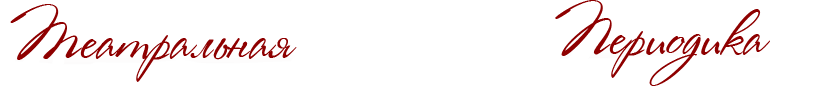
 Еженедельник Петроградских государственных театров. 1922. №1-2 (17-24 сентября )
Еженедельник Петроградских государственных театров. 1922. №1-2 (17-24 сентября )