он сказал «слово полное и цельное… слово, наконец, последнее, потому что дальше в его направлении идти нельзя и некуда»[1]. Нужно было «новое слово» и новое отношение к жизни. То и другое дал в своих комедиях Островский, явившийся на литературную сцену, как «разумное историческое и самостоятельное последствие» гоголевского слова. Он пошел в своем творчестве от того пункта, где остановился Гоголь, но пошел в ином направлении, в направлении прямого и спокойного выявления и изображения коренных основ народной жизни, сказав тут «новое слово» и показав новое отношение к действительности. В подтверждение своих соображений Григорьев дал в своей статье обстоятельный анализ «Бедной невесты», закончив его словами: «Бедная невеста», несмотря на свои недостатки, должна явиться «замечательным произведением во всякой литературе, а задачи ее так широки, благородны и новы, что, без сомнения, поставляют автора в главе современного литературного движения» [2].
Статья Григорьева, богатая по содержанию и серьезная по своим взглядам, не получила справедливой оценки со стороны критики. «Отеч. Записки» и «Современник» обошли ее молчанием. Другие же органы не нашли в ней ничего достойного внимания, кроме отдельных слов, выражений и случайных промахов, которые они извлекли из статьи для того только, чтобы поглумиться над Григорьевым. Так, Булгарин наполнил три больших столбца случайно выхваченными из статьи словами и выражениями, не имеющими без связи с целым никакого смысла, и следующим образом закончил свой отзыв: «Автор статьи вводит в русский язык слова из всех возможных языков, чтобы другие подумали, что он силен в них… Настоящее шутовство! А ныне это в моде между писателями, которые, как говорит автор статьи, за исходную точку в литературе принимают появление в свет Мертвых душ и Ревизора, автора которых ставят выше Мольера и на одной линии, хотя несколько выше, с Шекспиром! Спрашиваю: для кого пишут эти господа? Откуда почерпают это смешение языков? Какие из этого могут произойти последствия для языка и слога?»[3].
Григорьев более года не делал попытки говорить серьезно об Островском. Если он и писал о нем за это время, то лишь попутно. И только в 1854 году, увлеченный «Бедностью не порок», игранной на сцене, Григорьев снова заговорил восторженно о своем кумире, но на этот раз не в прозе, а в стихах. Он поместил в «Москвитянине» элегию-оду-сатиру, под заглавием: «Искусство и правда»[4], где дал восторженную характеристику «грозному чародею» Мочалову, обрушился на выступавшую тогда в Москве Рашель, в игре которой он не нашел ничего, кроме фальши и искусственности, и пропел дифирамб Любиму Торцову, как национальному герою и «глашатаю истины»:

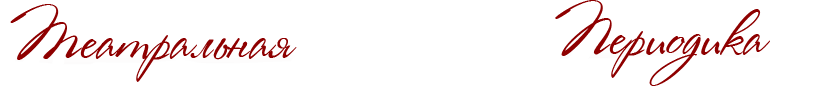
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919