прежних статьях и в этом последнем «курсе». Раньше он повел было свои рассуждения о драматурге издалека — «ab ovo», а теперь он сократил свой размах: «взял другой прием — кратчайший»[1], начал с возражения Добролюбову и непосредственной оценки драматурга.
Григорьев справедливо указал в своем «новом курсе», что Добролюбов, взглянув на Островского через призму теории, увидел в его произведениях только то, что отвечало его теории, закрыв глаза на то, что ему было не нужно, или этому ненужному дал произвольное истолкование, согласное с своей теорией. И потому неудивительно, что жизнь, изображенная Островским, представилась Добролюбову «миром затаенной, тихо вздыхающей скорби, миром тупой, ноющей боли, миром тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемого глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора, гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма». Над этим миром «буйно и безотчетно владычествует бессмысленное самодурство… не признающее никаких разумных прав и требований» [2]. На явную симпатию драматурга к таким чисто русским натурам, как Любим Торцов, Петр Ильич, Митя, Бородкин и Кабанов, на явную симпатию его к Большову, на любовный и трогательный характер семейных отношений, на типы русских матерей, на целый ряд нежных, глубоких и грациозных женских натур и т. д. — на все это, как ненужное ему, Добролюбов закрыл глаза. Целый мир, созданный художником, Добролюбов разрушил силою своего таланта, и на место живых образов поставил мертвые фигуры с ярлыками на лбу: самодурство, забитая личность, протестантка и т. д.
Зато «Островский, — замечает Григорьев — становится понятен, т. е. теория может вывести его деятельность, как логическое последствие, из деятельности Гоголя. Гоголь изобличил нашу напоказ выставляемую, так сказать, официальную действительность. Островский подымает покровы с нашей таинственной, внутренней, бытовой жизни, показывает главную пружину, на которой основана ее многосложная машина — самодурство»[3].
Григорьев допускает, что Добролюбов, как честный и искренний мыслитель, положил Островского на Прокрустово ложе не преднамеренно, а скорее бессознательно, основываясь на фактах, данных самим же драматургом. Деятельность последнего, как известно, не была единой и гармоничной. Произведения его, написанные в период, когда он стоял в центре «молодой редакции «Москвитянина», никакими сторонами не подходят под начала теории Добролюбова. В произведениях же, появившихся после распадения «молодой редакции», начиная с комедии «В чужом пиру похмелье»,

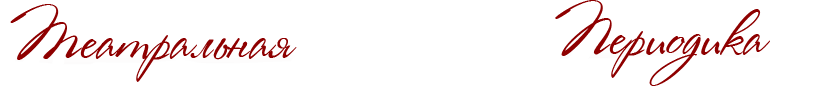
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919