страшные порождения ненормально сложившихся условий нашей жизни. Уланбекова — не Кабаниха. Кабаниха — могучий, но окаменелый характер, вышедший целиком из нашего векового, упрямого быта. Уланбекова — «слизь», навязанная нашей жизни историческими случайностями. Кабаниху можно ненавидеть, но мы не отвернемся от нее с таким омерзением, с каким отвернемся от Уланбековой. «Среда жизни, создавшая Уланбекову иная, нежели среда жизни, создавшая Кабаниху», а отсюда — «иной характер двух трагедий, которых они виною. Страшная необходимость господствует в одной, столь же страшная случайность в другой». Надя гибнет, упоенная чарами ночи. Виной гибели Катерины — не ночь, а «быт… вольный, молодой быт приволжского города, прорывающийся своими молодыми побегами сквозь окаменелые формы мрачных преданий, протестующий против них из начал столь же, как и они, эти мрачные предания, если не более еще, коренных и народных, протестующий своею широкой песней, широкой гульбой, широким и наипростейшим пониманием отношений мужчины и женщины; быт, в котором «наталкивают на грех» и овраг городской — узаконенное место гульбы, и ключ от калитки, и бойкая золовка с Ваней Кудряшом… Две жизни, равно исторически «сложившиеся, две системы понятий там борются»[1] … В зимний ли вечер, в летнюю ли ночь отдается Катерина — безразлично: протест здесь не в природе, а в быту. В «Воспитаннице» же главное действующее лицо — весенняя ночь, раздражающая нервы.
Этими двумя комедиями Островский главным образом заплатил дань времени, и к этим комедиям вполне приложим «умнейший кунштюк формулы» Добролюбова. Остальные же комедии драматурга второго периода, если и подходят под теорию Добролюбова, то лишь отдельными местами и притом с большой натяжкой. Возьмем для примера первую и самую спорную комедию этого периода: «В чужом пиру похмелье». Для Добролюбова все в этой комедии — «грубость, и отсутствие честности, и трусость, и порывы великодушия — и все это покрыто тупоумной глупостью»[2]. К этому миру драматург не мог иначе отнестись, как сатирически и с обличением. Для Григорьева «В чужом пиру похмелье» — контраст двух миров: одного, разобщенного с отвлеченным законом и цивилизацией, и другого, разобщенного с бытовой жизнью. В обоих мирах, вследствие их замкнутости, развилось самодурство до ужасающих размеров. Но этот контраст взят Островским отнюдь не сатирически, а чисто поэтически[3].
Подвергнув анализу и другие комедии Островского второго периода, Григорьев и здесь приходит к выводу, что Островский, если не считать его комедий «Доходное место» и «Воспитанница», — не сатирик и не обличитель, а национальный драматург, увековечивающий в своих произве

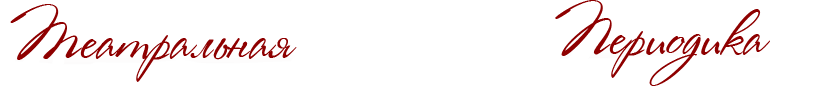
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919