и историческое и ждать, пока наука, объяснив историческое, дойдет до единого корня многоразличных наростов — сущность рассуждений исторической школы; но ведь жизнь-то не ждет, а жизни нужны закон и знание закона, как хлеб насущный? Или поступить с Гордиевским узлом по-александровски, пожалуй, по-наполеоновски — оставить развалины и построить новое здание? [30] Вопрос жизненный и представляющий одну из сторон великого вопроса, который разрешал XVIII век на Западе… Но если жизнь не ждет, и если практическое решение не могло быть иное, как построить новое здание, то, во-первых, на каких же основах его построить? Принять ли за gemeines Recht Римское право? Но в руках цивилистов оно сделалось только юридической логикой, юридической диалектикой, оторвалось от всякой почвы. Или личные тeopии некоторых мыслителей, или одну личную волю законодателя? А, во-вторых, разве пренебреженные местности, разве исторические отработки не оживут, не отрыгнутся в час своего разрушения?.. Хоть они и поросли мохом, но в них таится жизнь посильнее жизни личной мысли или диaлeктичecкoй жизни, и целый ряд тех или других реакций неминуемо должен воспоследовать, и отрыжки болезненного организма приведут его еще в более неправильное состояние… А между тем, неведение закона есть самое важное из зол государственных — и сердцем будешь всегда скорее на стороне мыслителей, которые, как Тибо [31], придумывают те или другие меры, реформы, чем на стороне софистов, которые диалектически забавляются страшною путаницею и советуют ждать всего от науки, а с другой стороны, в сердце же найдут себе защиту и сожаление пренебреженные местности и поросшие мхом прошедшего исторические отработки! Странное и безвыходно трагическое положение [32].
Но там, где жизнь не раздвоилась, где прошедшее живет в настоящем, где постоянно проходят одни и те же начала, — там, где в правдах, уставах, грамотах, судебниках вырастала одна и та же мысль, воплотясь, наконец, в истинно-земское уложение, там, где дело о разъяснении закона порешилось простейшим образом — составлением свода, в который вошло все прошедшее, уцелевшее в настоящем — там, естественно, рассуждается не о том, какой закон поставить, а как усудить — и порешается вопрос весьма простым требованием одной ясности: «А надобня такъ его усудить, — говорит Посошков, — чтобъ и не весьма смышленный судья могъ право судить». Самый закон все знают, как бы он разнообразен ни был, в том смысле, как знает всякий русский человек всякую пословицу, какова бы она ни была, т. е., слыша ее, припоминает, узнает за родную, за знакомую, ибо все наши юридические положения выросли, за исключением тех, которые привились и большею частью не устояли, из обычаев, доселе уцелевших — но этот всем известный закон «надобно усудить» до той степени ясности, «чтобы и не весьма смышленный судья могъ право судить».

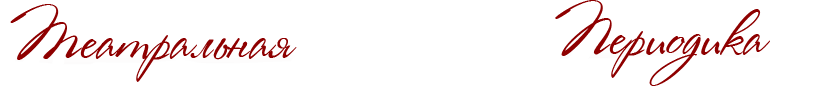
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919