что они несценичны, и успех их отдалили на полстолетия. Когда Островский впервые поставил «Лес», — его в Петербурге ошикали, а рецензенты нашли, что это полное падение таланта автора. Когда он дал «Волки и овцы» — говорили, что это неудачное произведение, которому суждена кратковременная жизнь!
Критики забывают свои прежние отзывы. То, что несколько лет назад им казалось плохим, потом они возносят на пьедестал. То, чем они восторгались, оказывается для них же «неприемлемым» через какие-нибудь три года. Все это накладывает тюремные оковы на свободное творчество. С одной стороны, критика подвергает пьесу публичной казни, с другой — специалисты дают ей премию. — Одно хорошо в критических отзывах прессы: на них можно не обращать внимания. Они влияют на первые три-четыре представления, — а на дальнейшие не оказывает никакого влияния. — Изруганные и смешанные с грязью произведения пережили и своих критиков, прожили десятилетия, полстолетия, и будто помолодели. Насколько кругозор их авторов был шире близорукого воззрения их критиков!
Автор отвечает и за неправильное толкование роли актером. У меня в «Перекати-поле» выведен тип князя Алсуфьева, который тронут модными тогда (в восьмидесятых годах) идеями Толстого. Но из этого не следует, что актер должен гримироваться Толстым. Это молодой, красивый, тридцатипятилетний породистый человек, с короткой, но моде подстриженной бородой, в опрятной блузе и высоких сапогах. Когда в последнем акте он является в сюртуке, — его голова, его прическа и манеры оказываются куда более подходящими к этому платью, чем к блузе. Его опрощенье было наносное, и его нормальный вид — конечно, «городской». А иные исполнители являлись в этой роли пожилыми, неопрятными, длиннобородыми субъектами, воображая, что они помогают автору, а не извращают его замысла. Та элегантность и аристократичность, которой был не чужд до последних дней Толстой, зачастую в нем прорывавшаяся, особенно при гостях, должна чувствоваться и в моем князе, — в его манерах, обращении, разговоре…
Когда мне доводилось выводить на сцену общие типы — меня упрекали в фотографичности, и даже в намеках на тех или других лиц. Когда я подходил к натуре слишком фотографично — меня упрекали в утрировке. В начале двадцатого столетия мною переделан был в пьесу мой роман «Ноша мира сего». Часть прессы забила тревогу, заговорили о том, что это чуть ли не пасквиль, а между тем те же факты, в том же интеллигентном поселке были описаны в том же освещении в книге Кривенка «На распутье», — об этом критики умолчали, передернув только карты, когда им было нужно. — В одном романе вывел я тип литератора-доносчика. Таких было у нас не мало. Один из критиков наших жестоко обиделся, найдя что я имею в виду именно его. Меня упрекнули в фотографичности типа. Я и не знал, что он занимался доносами.

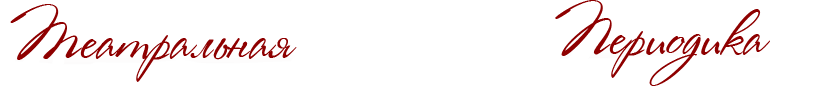
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919