как только оно попадает на нашу территорию, его начинают полосовать, в три кнута. Несколько лет позже, по предложению директора Волконского, я перевел только что поставленную тогда у Антуана комедию Брие «Заместительницы». Когда она дана была (в 1901 году) на Александрийской сцене, ее критики нашли тоже несовместимой с нашими идеями, и идеи о кормилицах и матерях, проводимые автором, совершенно чуждыми нашей жизни. На внешнюю талантливость сценической трактовки и на мастерской диалог не обратили внимания. Даже иные ценители восклицали: «К чему ставить Брие на русской сцене? Зачем? Что он, — классик?»
В начале октября приехал я в Москву на постановку «Истукана». Репетиции ладились: актеры дружно и весело взялись за дело. Ничто не предвещало бури, а между тем туча надвигалась.
Дня за два до первого представления, явился ко мне сотрудник «Московских Ведомостей» и стал снимать с меня соответствующие показания. Держал он себя «корректно», как говорили тогда, и не торопясь записывал мои слова. Катков тогда уже умер, и редактирование перешло к его преемникам. Я Каткова никогда не знал, но в «Русском Вестнике» были тем не менее напечатаны три мои повести, пьеса и две театральных статьи. Мне, молодому автору, было очень лестно печататься в органе, где Лев Толстой, Достоевский, Лесков, Фет — столпы нашей литературы — печатали свои вещи. Сотрудничество это как бы заставляло меня ожидать, что отношения и «Ведомостей» будет благожелательно. Но тут-то и оказалась с моей стороны ошибка.
Театр на первом представлении был переполнен. Смеялись много вызывали шумно. Актеры вели пьесу по тексту без малейших сокращений. Что полгода назад была напечатана в петербургском еженедельном журнале повесть того же названия, и совершенно совпадающая по диалогам с даваемой пьесой, — об этом никто не говорил. Особенный успех имел Рыбаков. Он был в ударе и действительно чудесно вел свою роль, — московского недалекого самодура, желающего поставить свой дом, вопреки дедовскому уставу, на новый, заморский лад. Только в самом конце пьесы, он, на согласие англичанина отужинать вместе, на его «yes», прибавил от себя: «и есть будем, и пить будем!» Хотя я и обратил на это внимание главного режиссера, но он мне ответил, что это превосходно и очень смешно, что прибавка сделана с его согласия и отменить ее — значит обидеть Рыбакова. Об авторе и его обиде даже никто и не заикался.
Мы засиделись после первого представления за ужином у Южина-Сумбатова до шестого часа утра. Меня поздравляли с успехом и пророчили «Истукану» длительный успех. А на утро — гром грянул.
На другой день явился ко мне какой то заикающийся молодой человек, совершенно мне неведомый, и, заявляя свое сочувствие и полную, со мной «солидарность», таинственно сообщил, что на меня готовится донос, что я обвиняюсь в кощунстве.
— «Куда донос? в каком кощунстве»?

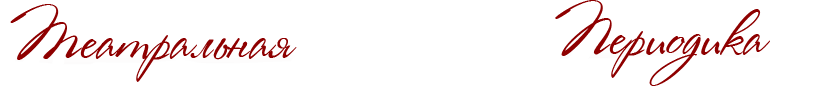
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919