— «Обо всем этом подробно будет изложено завтра в «Московских Ведомостях». Рецензия и заметка — «Кощунство на императорской сцене».
— «Кому же доносят»?
— «Министру Двора — это раз. Министру Внутренних Дел — на упущение драматической цензуры — два. Святейшему Синоду, другими словами — Победоносцеву. Здешнему митрополиту. Примите меры».
— «Да пусть себе их доносят на здоровье»!
— «Ой, не говорите! Пьесу могут приказать снять с репертуара».
— «На следующие два представления места все разобрали».
— «Знаю-с, — но это ничего не значит. Следует все-таки принять меры. Рецензент заявляет, что публика так была возмущена, что выйди автор на вызовы, — его бы растерзали».
— «Да ведь я же выходил, и никаких протестов не было»?
— «И это знаю. В театре я вчера находился. Меня именно и возмущает эта ложь»…
На следующий день обе статьи, действительно, появились в печати.
Управляющий московскими театрами был тогда Пчельников, раненый офицер, кажется, человек очень мало понимавший в театральном деле и державший себя с артистами, как помещик с дворовыми. Принимал он их в халате, надетом на нижнее белье, — даже актрис, и никогда не извинялся за свой туалет. Но он был при том человек весьма благожелательный, и весьма долго сидел на своем посту, дольше своих предшественников. Встретил он меня взволновано, позвав меня специально для совещания.
— «Надо принять меры»! — заговорил он. «Сейчас же телеграфируйте Директору, чтоб он не верил статье «Московских Ведомостей». Телеграфируйте о том же в драматическую цензуру. Директор сам передаст, что, нужно нашему министру. Садитесь, пишите сейчас же телеграмму — это необходимо, чтоб обелить и вас и нас. Вы хотели завтра уезжать? Нельзя-с. Вы должны быть свидетелем того, как пройдет второе и третье представление. А пока, — я вот для этого и режиссера вызвал, — вы должны кое-что убрать из текста».
Оказалось, что вся сила доноса заключалась в том, будто бы актер Музиль игравший странника, пел на сцене, да еще в комическом виде — «Свете тихий». Между тем у меня, по тексту пьесы, он говорит, смотря на потухающую зарю: «Ишь ты — свете тихий! Вот и там так, во Ерусалиме и в Киеве так, — да, везде солнце садится, везде встает. Чудеса!»
Пчельников настоял, чтобы слова «Свете тихий» были выкинуты.
— «Черт их знает — подлецы ведь. — Музиль не пел, а они говорят пел, — так вот он и поминать даже о свете не будет. И выйдет, что соврал рецензент».
Итак, мне пришлось остаться. На втором представлении, переполненный театр ждал кощунств и оскорблений. Хохотали, но сдерживались. После актов вызовов не было. Чернявский ходил хмурый. Но когда кон-

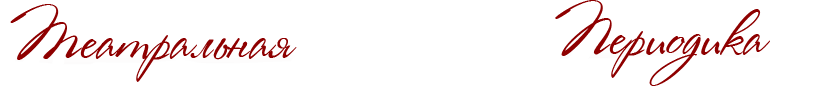
 Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919
Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918-1919